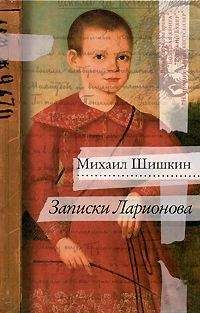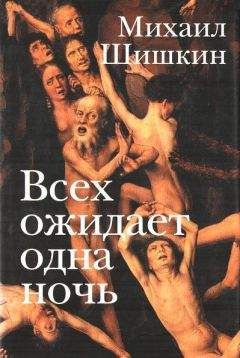Ознакомительная версия.
– Садитесь поскорей, – сказал он. – Негоже заставлять ждать себя в такой день.
– Вы, я вижу, настроены на шутливый лад, – ответил я. – Сегодня, кроме вас, кажется, никто не намерен шутить.
Мы тронулись. Степан Иванович, закутавшись в шинель, откинулся в глубину возка и молчал, погруженный в свои мысли, ничего не замечая вокруг. Мне приходилось поторапливать извозчика, который ехал почти шагом и все норовил заснуть на козлах. Лошадь была тощая, двухместная коляска ободранная, кожа между крыльями порвана, а из-под подушки торчало сено.
Мы ехали по туману вслепую, иногда только на несколько мгновений проступали встречные повозки, люди, заборы, деревья.
Проехали заставу. Заспанный, продрогший солдат, засунув руки в рукава, проводил нас долгим, злым взглядом. Потом и он скрылся за пеленой.
– Степан Иванович, скажите, вы любите ее? – спросил я.
Он протер лицо, будто умылся, прежде чем ответить.
– Да, я люблю ее. Но все это не имеет уже никакого значения.
Сквозь туман проступила наконец красная черепичная крыша. Мы остановились у крыльца гастхауза. Несмотря на ранний час, из открытого окна бильярдной раздавалось щелканье шаров.
Мы вошли. В зале лакей расстилал чистые скатерти. В углу у окна сидел Шрайбер и ел из глубокой тарелки жирные густые сливки. Он кивнул нам.
– А мы ждем вас, ждем! На бедного Орехова смотреть страшно! От нетерпения убить вас он тут бегал как сумасшедший, а сейчас гоняет в одиночку шары. Может, приказать сварить кофе, а то с утра что-то прохладно?
– Благодарю вас, не стоит, – сказал Степан Иванович. – Лучше приступим к делу, да побыстрее.
Еще с минуту нам пришлось наблюдать, как Шрайбер доедал свои сливки, качая головой и причмокивая. Лакей угрюмо посматривал на нас, с хрустом раздирая накрахмаленные скатерти. Стук шаров прекратился. Из бильярдной вышел Орехов. Было видно, что ночью он не спал. Воспаленные глаза горели, под ними выступили мешки. Он чуть кивнул.
Мы вышли все вместе.
Туман, казалось, только усиливался. Все было мокро: и трава, и деревья.
Пошли опушкой леса, а экипажи следовали за нами. Если мы углублялись в чащу шагов на двадцать, в белом пару растворялись и коляски, и лошади.
– Не стоит идти дальше, – сказал Шрайбер. – Кругом все равно никого нет. Как вам нравится, господа, стреляться вот здесь?
Он указал на неглубокую поросшую орешником ложбину.
– Мне все равно, – буркнул Орехов.
Степан Иванович только пожал плечами.
– Вот и славно. Устраивайтесь, господа, а я пока с Александром Львовичем все приготовлю…
Мы отправились размечать барьеры. Шрайбер воткнул в землю свою трость и зашагал по сырому, прогнившему валежнику. Там, где он остановился, я бросил на мокрый куст свой плащ.
Принялись заряжать пистолеты. Шрайбер протянул было ящик мне, но я отказался.
– Как изволите, – сказал Шрайбер и сам стал насыпать порох, заколачивать его пыжом, забивать шомполом пулю. Он так увлекся, что даже стал насвистывать.
– Боже мой, вы хоть сейчас не паясничайте, – не выдержал я.
Шрайбер ничего не ответил мне, но свистеть прекратил.
Наконец раздались два щелчка, это доктор взвел курки. Он поднялся, в каждой руке по пистолету.
– Господа, прошу вас!
Орехов и Степан Иванович подошли и разобрали пистолеты.
Я выступил вперед.
– Степан Иванович! Дмитрий Аркадьевич! Сейчас самое время помириться! Ну, полно вам! Вы оба вполне показали ваше достоинство, и честь, и храбрость. Подайте руки друг другу, через минуту уже будет поздно!
– Послушайте, Орехов, – Степан Иванович обернулся к нему. – Незаслуженное оскорбление, которое вы нанесли мне, достойно того, чтобы смыть его кровью. Но я прощаю его вам. Я не хочу ничего объяснять, но, поверьте, в жизни моей сейчас произойти должен поворот, судьба моя должна наконец решиться. Сейчас мне нужна жизнь моя как никогда. Ничего не скажу вам более, вы все равно не поймете меня. Против вас, Орехов, я ничего не имею, хотя вы мне, признаюсь, мало симпатичны. Я не имею желания убивать вас. Вот вам рука моя и поедемте отсюда поскорее. Здесь сыро, а я еще не совсем здоров.
Степан Иванович протянул Орехову руку.
– Полно бессмысленных разговоров, – сухо отрезал тот. – Пожалуйте к барьеру!
И Орехов быстрым шагом пошел к своему месту.
Какое-то время Степан Иванович стоял в нерешительности. Потом медленно направился к моему плащу.
Противники стояли в шагах пятнадцати один от другого.
Шрайбер подошел к Орехову. До меня донесся его приглушенный голос.
– Цельтесь в живот, если вы хотите размозжить голову.
Шрайбер отошел и, взмахнув рукой, крикнул:
– Сходитесь!
Орехов, не поднимая пистолета, быстро подошел к барьеру.
– Прекратите, хватит! – закричал я.
Орехов нервно дернулся.
– Замолчите вы наконец!
Он поднял руку и прицелился.
Степан Иванович оставался стоять как стоял, расставив ноги, ссутулившись.
Орехов опустил пистолет.
– Предупреждаю вас, что это не шутка и я намерен убить вас.
Он снова поднял пистолет и прицелился. Я стоял напротив того места и видел, как он целился сначала в голову, потом, видно, вспомнив наставление Шрайбера, опустил дуло чуть пониже.
Кажется, до последнего мгновения Степан Иванович не верил, что раздастся выстрел.
Пистолет в руке Орехова дернулся, все окуталось облаком дыма, эхо выстрела прокатилось по лесу.
Степан Иванович зашатался, отступил на шаг и упал на бок. Я бросился к нему.
– Что с вами? Вы ранены?
Он был бледен, но улыбнулся мне. Когда я подбежал, он уже сидел. В последнюю секунду перед выстрелом Степан Иванович прикрылся пистолетом, и пуля, ударившись в замок, отскочила рикошетом.
Подбежал Шрайбер.
– Поздравляю вас, это второй подобный случай в моей практике.
Орехов настоял, чтобы продолжать с одним пистолетом. Пистолет Орехова снова зарядили, и все вернулись на свои места. Степан Иванович подошел к барьеру и долго стоял, не целясь.
Орехов тер пальцы, теребил пуговицы, наконец закричал:
– Что же вы медлите, стреляйте! И знайте, что если вы захотите выстрелить в воздух или иным другим способом сохранить мне жизнь, я не пощажу вас!
Тут произошло то, что никто не мог предвидеть. Степан Иванович вдруг выронил пистолет, закачал головой, схватился руками за виски, повернулся и пошел к опушке леса, туда, где мы оставили экипажи.
– Куда вы? – крикнул ему вслед Орехов.
Степан Иванович не оборачивался. Он бормотал что-то и брел, покачиваясь, между деревьев.
– Вы жалкий трус! Вы недостойный человек! Вы подлец! – кричал ему вдогонку Орехов.
Густой туман быстро спрятал сутулую фигуру Ситникова, был только слышен хруст веток под его ногами. Мимо меня прошел Шрайбер.
– Ну вот, Александр Львович, – скривил он губы, – а вы беспокоились!
За ним, сжимая кулаки, прошагал Орехов.
Я стоял, не зная, что делать, потом поднял свой плащ и тоже поплелся к опушке.
Когда я вышел к нашей коляске, второго экипажа уже не было. Мы покатили обратно к Казани. Туман уже рассеивался, выступило солнце, и молочный пар, заливший Арское поле, светился чем-то розовым и золотым.
За всю дорогу мы не сказали друг другу ни слова.
Солнце было уже высоко, когда коляска выехала на Большую Казанскую. Дверь нам отворил заспанный, неодетый литвин.
– Наконец-то, – недовольно пробормотал он. – Вас тут уже дожидаются.
– Кто? – удивленно спросил Ситников.
– Сами увидите.
Мы поднялись по лестнице. Дверь в гостиную была открыта. Посреди комнаты стояла Екатерина Алексеевна. На ней было темное дорожное платье. На полу стоял саквояж.
– Господи, жив, – прошептала она и бросилась к Степану Ивановичу. Она обвила его шею руками и стала покрывать лицо поцелуями.
– Вы не знаете, не можете себе представить, что я пережила за это время!
Она вдруг отпрянула.
– Что с Ореховым? Почему вы молчите?
– Успокойтесь, Екатерина Алексеевна, – сказал я. – Орехов невредим. Дело кончилось бескровно.
– Я всю ночь молилась за вас! – Она снова прильнула к нему.
Степан Иванович обнял ее.
– Я все решила, – сказала Екатерина Алексеевна. – Так дальше жить невозможно…
– Екатерина Алексеевна, – начал Ситников, но она зажала ему рот ладонью.
– Молчите, не перебивайте меня! Я люблю вас! Я ушла из дома, навсегда, насовсем. Отец проклял меня, и я благодарна ему за это. Обратно дороги мне нет. Я люблю вас, и, кроме этой любви, мне ничего не нужно!
Я осторожно прикрыл за собой дверь, тихо спустился по лестнице и вышел на улицу.
Дома меня встретил Нольде.
– Вы слышали? Умер Кострицкий.
– Как умер? Я ничего об этом не знаю. Когда?
– Вчера.
– Что с ним случилось?
Нольде замялся.
– Собственно говоря, он повесился, только никому об этом не говорите. Все знают лишь, что его хватил апоплексический удар.
– Да что это он! Кто бы мог подумать! Всех смешил, а сам… Ничего не понимаю.
Нольде вздохнул и пожал плечами.
Ознакомительная версия.