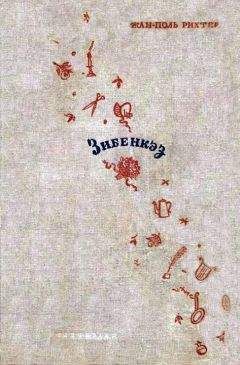Человек на дороге поднялся на ноги и поспешно удалился. Он и его тень еще долго были мне видны при ярком свете месяца.
Я покинул свою гору, этот пограничный холм между двумя годами, и спустился на дорогу, где раньше стоял на коленях тот человек. Там я увидел перекресток и потерянный маленький и тощий молитвенник, переплетенный в черную кожу; от долгого чтения его листы пожелтели. На единственном белом листе — заглавном — стояло имя владельца, чьи колени оставили глубокие следы здесь, на обледенелом снегу дороги. Я хорошо знал его: то был безземельный крестьянин; у него в нынешнюю войну взяли в армию двух сыновей. Продолжая разглядывать, я увидел на снегу круг: мой трусливый смельчак начертал его в качестве магического круга против злых духов.
Теперь я обо всем догадался: глупец, душа которого пребывала словно в кольце солнечного затмения, желал в эту торжественную ночь подслушать отдаленный глухой грохот будущих гроз, и не телом, а приниженной душой приник к земле, чтобы издали услышать мерный шаг наступающих вражеских войск. «О боязливая душа, — подумал я, — зачем в эту тихую, ясную ночь должны явиться будущие мертвецы со своими ранами и искалеченные тела твоих спящих сыновей? Зачем ты хочешь видеть уже пылающими будущие пожары и внимать ужасным воплям еще нерожденного и еще немого горя? Почему на могилах будущего года, стоящих, как во времена чумы, безыменными рядами, уже должны показаться имена. О, твой магический Соломонов перстень не защитил тебя от злобного духа, живущего в нашей груди. И бесформенная огромная туча, за которой скрываются смерть и грядущее, при нашем приближении сама превратится в смерть и грядущее…»
В такие часы все мы готовы возложить на гроб свою шляпу и шпагу и самих себя впридачу, — старые раны снова горят, а мнимоисцеленное сердце разбивается снова, как плохо сросшаяся рука. Но страшная, ослепительная молния великой минуты, своим отблеском озаряющая все течение нашей жизни, нужна, чтобы затмить в наших глазах все блуждающие огни и тусклых светляков, за которыми мы ежечасно следуем; суеверного человека лишь сильное потрясение избавляет от его мелких, назойливых низменных помыслов. Поэтому в нас, мелких ракушках, присосавшихся к земному кораблю, новогодняя ночь, подобно мифологической ночи, рождает многих богов и становится началом более возвышенного года веротерпимости, чем 1624. И некое чувство — смирение ли, раскаяние ли — побуждало меня преклонить колени на следах бедного отца, лишенного детей…
Но вдруг живительное дуновение ветра примчало из города ясные, веселые звуки, словно аромат и пыльцу цветов, через оледеневшие равнины; валторны и трубы с городской башни бросали в уснувший мир свою бравурную мелодию, бодро и радостно водворяя среди боязливых людей первый час нового года. И я тоже стал бодрым и радостным; с белого покрывала грядущей весны я возвел взоры к луне; и на ее частых пятнах, зеленеющих вблизи,[55] я увидел нашу земную весну покоящейся в цветах; ее распростертые крылья трепетали среди них, и она готовилась вскоре спуститься к нам вместе с иными перелетными птицами, украсившись трелями жаворонков и радужными переливами павлиньих глаз.
Долетавшие звуки отдаленной новогодней музыки еще порхали вокруг меня; растроганный и счастливый, я увидел грядущие скорби новорожденного года, и они были подобны — так прекрасно они преобразились — некоторым уже минувшим скорбям или окружавшим меня звукам. Так, в Дербиширских горах шум дождя, проникающего в большую пещеру, издали звучит как мелодия.[56]
Но когда я оглянулся вокруг, и белая земля показалась мне белым солнцем, а безмолвный темно-синий горизонт — семейным кругом существ, связанных братскими узами, — когда музыка, словно прекраснейшее эхо, откликнулась на мои мысли, — когда на звездном небе я признательным взором созерцал столько тысяч незыблемых очевидцев отцветших прекрасных минут, семена которых продолжает сеять всевышняя благость, — когда я подумал о спящих людях вокруг меня и пожелал им: «Пусть ваше пробуждение завтра будет более радостным», — и когда я подумал о людях, что бодрствуют там, внизу, и чьи уснувшие души уже давно нуждаются в таком же пожелании, — то моя грудь, истомленная чудными звуками и всеми чарами этой ночи, переполнилась чувствами, изнемогла под их тяжестью — блистающий месяц и горы искристого снега слились и расплылись в едином огромном сиянии… В свете его и среди праздничных звуков мне послышались голоса моих друзей и добрых людей, боязливо и нежно произносивших взаимные пожелания нового года; но они слишком растрогали меня, и я еле смог мысленно пожелать: «О, будьте все вы счастливы каждый год!»
Предисловие ко второй, третьей и четвертой книгам
Меня часто одолевала досада, что к каждому написанному мною предисловию я должен приклеивать книгу, словно добавочный лист к векселю или словно приложение sub litt, от «А» до «Я». Некоторым из ученых, частным образом занимающимся писательством, присылают уже готовые, новорожденные и новоиспеченные книги, так что к ним не требуется ничего привешивать, кроме золоченой вывески предисловия, и солнце не нуждается ни в чем, кроме зари. Но меня до сих пор еще ни один автор не просил о предисловии, хотя уже в течение нескольких лет я заранее сочиняю таковые в большом количестве и заготовляю их на продажу, причем по мере сил расхваливаю в них будущие творения. И вот целая коллекция таких почетных медалей и жетонов, которые я в честь чужих заслуг отчеканил на лучших гуртильных станках, вечно торчит у меня перед глазами и с каждым днем все пополняется; поэтому я в конце концов спущу за бесценок, — поскольку нет иного выхода, — всю коллекцию и издам целую книгу сплошь из предсуществующих предисловий — к вымышленным произведениям.
Однако до пасхальной ярмарки прологи будут продаваться врозницу; и те писатели, которые первыми обратятся ко мне с заказами, смогут выискать себе, — так как им будет выслана вся пачка инструкций, — то предисловие, где, на их взгляд, я больше всего хвалю книгу. Но впоследствии при выпуске всего собрания предисловий и славословий, которые я велю сброшюровать вперемежку с ярмарочным каталогом, ученые будут возвеличены сразу, in corpore, in choro, и я, так сказать, предложу дворянскую грамоту всей республике ученых, гуртом и оптом, как в 1775 году императрица австрийская — всему венскому купечеству; впрочем, в лице бедных рецензентов, которые круглый год возятся с кирпичами и цементом, воздвигая храмы славы и триумфальные арки, но наживают лишь гроши и горбы, я имею перед собою печальный пример того, что превозносить ученую республику в шести фолиантах менее выгодно, чем по примеру Саннацаро восхвалять венецианскую в шести строках, из которых каждая превратилась для поэта в дарственную запись на сто пятиталеровых монет.
На пробу я намерен вставить одно из тех предисловий в это и притвориться, будто им по моей просьбе снабдил мою книгу знаменитый автор, что на деле к тому же именно так и есть. Мне легко заставить мое существо или субстрат распасться на два лица, на изобразителя цветов и изготовителя предисловий. Однако я усердно, — ибо нет человека, совершенно лишенного скромности, — стараюсь выбрать для себя наихудшее предварительное замечание, в котором, право же, воздаются довольно умеренные хвалы и которое автора нижеследующего творения возносит не столько на триумфальную, сколько на погребальную колесницу, к тому же ничем не запряженную; между тем другие предисловия напяливают сбрую на потомство — в них оно, вместе с читающей публикой, припрягается к небесной и огненной колеснице бессмертия и везет авторов.
В заключение должен отметить, что достойный господин автор «Геспера» любезно согласился просмотреть мои «Цветы, плоды и тернии» и предпослать таковым нижеследующее предисловие, весьма заслуживающее прочтения.
Предисловие автора «Геспера»
Я могу силлогистически, и притом посредством сравнений, постулировать следующее.
Воспламененный дух многих писателей, например Юнга, подобно другой, если не спиритуальной, то спиртуозной субстанции, eau de vie, создает иллюзию, будто все люди, стоящие вокруг мерцающей чернильницы, обладают мертвенным цветом лица; к сожалению, при этом фокусе каждый смотрит лишь на других, а не в зеркало; в каждом человеке и писателе бренность всего окружающего лишь усиливает ощущение собственного уникального (исключительного) бессмертия; но всех нас это ублаготворяет чрезвычайно.
Отсюда, как мне кажется, легко сделать вывод,[57] что в пятом или в пятидесятом этаже поэт может заниматься стихотворством, но не празднованием свадьбы или домоводством, не говоря уж о том, чтобы жить открытым домом: разве не подобен он канарейкам, которым для высиживания птенцов требуется большая клетка, чем для пения?