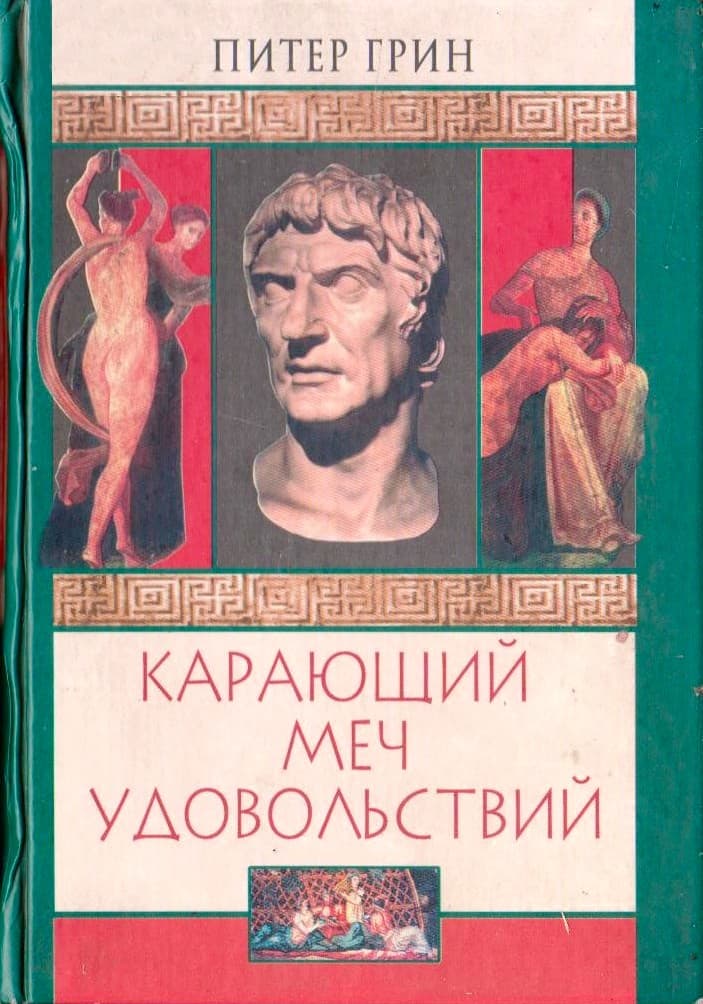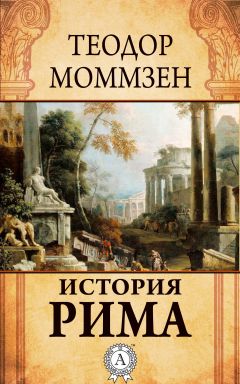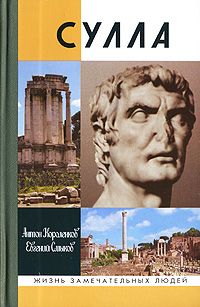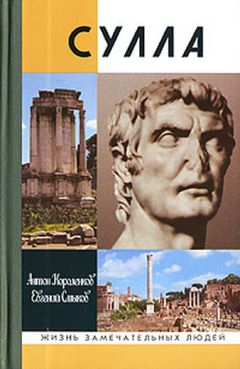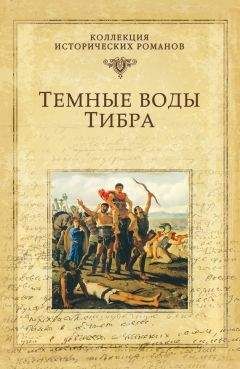«подняты, чтобы подавить жестокое восстание среди италийских союзников». Я сделал свой выбор; каков бы ни был исход, я, по крайней мере, при деле.
За эти два года я пережил самую трудную за всю мою жизнь борьбу. Это была мерзкая, беспорядочная, отчаянная кампания, борьба без милосердия, тем более отвратительная, что происходила она на фоне знакомого окружения. Мы жгли италийские пшеничные поля и грабили города италиков; мы угоняли италийских мужчин, женщин и детей, чтобы продать в рабство на открытом рынке или уморить до смерти работой в качестве скованных цепью каторжников на плантациях наших частных усадеб. Мы не могли, не осмеливались задумываться над тем, что делаем. Легкая победа, возможно, сделала бы нас щедрыми; но в первые несколько месяцев мы оказались на грани поражения.
Все же, если быть честным, я должен записать, что находил эту войну радостной. Все мое будущее зависело от моего успеха в ней: она была самым большим вызовом, который когда-либо бросала мне Судьба, и я дорос до него, поскольку любой прирожденный игрок — это тот, кто ставит самые высокие ставки. А поскольку моими ставками были жизни людей, мне было не до сантиментов. Мои противники сделали столь же высокие ставки, как и я; и я знал, что не получу от них никакого снисхождения, если удар будет направлен против меня.
К моему удивлению, оказалось, что я снова был назначен служить под командованием Мария. Ничто другое не могло бы так подчеркнуть характер нашего всеобщего кризиса. Мы с Марием публично рассорились; посвящение колонны Бокха храму на Капитолии породило скандал первого порядка. Марий хотел подать на меня в суд, и его друзья из партии популяров подстрекали его на этот поступок.
Но теперь все было забыто. Марий тоже должен был во что бы то ни стало отыграться в этой войне; военный захват — это единственное, что он понимает, и я думаю, он был доволен, хотя и никогда не сознавался, иметь помощника, на которого мог бы положиться в критической ситуации. Теперь ему было шестьдесят семь лет, и он был далеко не в форме. Мы обменялись рукопожатиями со своего рода сдержанным уважением, и Марий сразу же, без упоминания о нашей личной ссоре, принялся обсуждать план кампании.
Сразу было ясно, что нам придется сражаться на двух фронтах — на севере и юге. На севере мы были должны защищать Рим от Помпедия Силона и его марсов; на юге было необходимо удерживать самнитов от вторжения в богатую территорию Кампаньи, которая снабжала нас по большей части зерном и давала значительный доход от арендных плат владельцев сельских угодий.
«Казна, — говорил Марий, — опасно тоща».
Подобная перспектива сулит мало хорошего. Два консула почти не имели опыта командования.
Последовали центуриатные комиции и бесконечные обсуждения. Наконец было решено, что мы с Марием возьмем шесть легионов на северный фронт, чтобы сдерживать наступление марсов. Нам дали неделю, чтобы ввести наши отряды в боевые действия.
В то самое время Сцевола сделал мне намек о том, почему меня послали служить с Марием. Полководцев не хватало, и выбор, самой собой разумеется, пал на Мария как на главнокомандующего; но Сцевола довольно ясно дал понять, что, если бы не критическое положение, ничто не смогло бы заставить ни ту ни другую партию наделять старика такими полномочиями.
— Вне поля битвы, — говорил Сцевола, — Марий совершенно ненадежен. Ты должен это понимать. А теперь, возможно, яснее, чем когда-либо. Он — скопище жестоких и неосуществленных амбиций. Возможно, только ты можешь справиться с ним. Я слышал, говорят, что в награду за свои услуги он ожидает должность консула в седьмой раз. Наверняка в день его рождения было знамение — семь воронов уселись на его колыбель, или что-то в равной степени невероятное, и теперь он думает, что настало его время.
— Понимаю, — сказал я. — Какая досада для всех, что он до такой степени обязателен.
Сцевола предпочел проигнорировать мой тон.
— Никто не предложит Марию консульство — по крайней мере, с благословения богов, никто не будет в состоянии дать его ему. Мы, определенно, никогда не мечтали об этом, несмотря на его прошлые заслуги. Да и, как я полагаю, наши деловые друзья тоже. Они не забыли его неудачу с Сатурнином. Марий еще сочтет себя обиженным человеком.
— Разве это имеет значение?
— Вполне возможно. Не забывай, Марий родился в Арпине [81]. Он был крестьянином всю свою жизнь. Я полагаю, что он связан какими-нибудь родственными связями с предводителем марсов Помпедием Силоном. Ты понял, к чему я клоню?
— Еще бы! Но я уверен, что ты ошибаешься. Марий никогда не станет предателем, не такой он человек. Как у всякого выскочки, у него страстное желание приобщиться к аристократии. Он сильнее придерживается традиций, чем ты, Сцевола…
— Будем надеяться. Но я думаю, нам всем было бы гораздо спокойнее, если бы вы по-прежнему находились в размолвке. Пожалуйста, не думай, что осторожное сообщение в Рим — конечно, в случае крайней необходимости — будет воспринято как тень, брошенная на твою лояльность. Ситуация отчаянная. Мы не можем позволить себе пойти на риск. И конечно… — он улыбнулся своей ласковой улыбкой, — мы сильно заинтересованы в содействии в твоем продвижении по службе. Я уверен, ты понимаешь.
Я все прекрасно понимал.
Неделю спустя мы с Марием скакали на север во главе наших отрядов, весенний солнечный свет вспыхивал на наших панцирях, первые зеленые побеги пшеницы показались в бороздах. Крестьяне, гнущие спину на своих отрезках, разгибались и смотрели нам вслед с тупым безразличием. Еще некоторое время, во всяком случае, продолжалась неспешная, терпеливая работа в полях и на виноградниках.
Я думал о своей жене и дочери, оставленных в одиночестве теперь в высоких мраморных покоях белого дома на Палатине. Наше расставание было торжественным и официальным: традиция, как всегда, предлагала формулу, которая могла бы перекинуть мостик и в самой невыносимой ситуации. Но ситуация осталась неразрешенной и неразрешимой. Я покачал головой и поскакал легким галопом вперед, пока не догнал Мария, а потом поехал с ним бок о бок. Воздух был холоден и чист, перед нами расстилались невысокие холмы и отвесные ущелья кантонов марсов. Марий повернулся в седле, приземистый и неуклюжий, и оскалился, словно пес, почуявший вепря.
Нравится мне или нет, но начавшаяся война породила между нами некое любопытное товарищество. Длинные месяцы, которые мы провели в Нумидии и Галлии, не прошли без следа; они не имели ничего общего с Римом и его мучительными проблемами, они существовали как нечто обособленное.