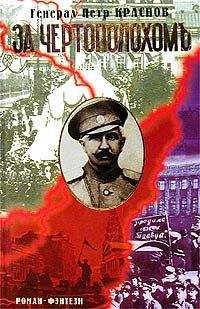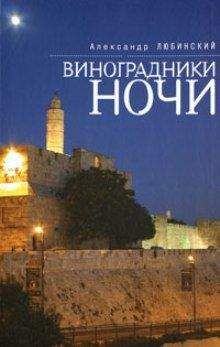— Именно потому, что я хотела сберечь славное имя твоего отца, барона Мённикхузена, от нового позора, я и предложила старику свою помощь: взяла тебя под опеку, — сказала она хриплым голосом. — Ты должна знать, дорогая, что не вырвешься из моих рук до тех пор, пока упорство твое не будет сломлено силой и пока твои помыслы, ныне блуждающие на ниве греха, не будут перенаправлены к благу.
— Я не могу поверить, чтобы мой отец отдал меня сюда в заточение, — воскликнула Агнес. — Не могу поверить, что он, зная о вашей жестокости, о ваших подозрениях, согласился принять вашу помощь. Вы, верно, обманули его; вы ему другое предлагали…
— Думай, что хочешь, маленькая лгунья, но прежде всего ты должна поверить: в этих стенах вся власть и сила сосредоточены в моих руках. Тебя никто не спасет ни сегодня, ни завтра; и в сих стенах у тебя нет доброжелателей. Твой отец далеко, и он доверяет мне больше, чем тебе. Он не хочет тебя видеть, пока я не извещу его, что ты этого достойна, — аббатиса изучающе глядела на племянницу, желая знать, возымеют ли ее слова долженствующее действие; и радовалась, видя смятение в лице девушки. — Не бойся, что я посягну на твою жизнь, но тело твое я подвергну истязаниям, твою оскверненную душу очищу: если не молитвой и увещеваниями, то плетью, если не плетью, то мучительным огнем… И все же ты можешь облегчить свое наказание, если открыто назовешь того, кто увлек тебя на путь греха и кто доныне тобою владеет.
Тут одна поистине шальная мысль промелькнула в голове у Агнес: «Тетя ведь женщина, и, может быть, ее гложет простое любопытство? Многие из женщин, присутствовавшие в тот памятный день в церкви, много бы отдали за маленькое знание: что стоит за многократным „нет!“ невесты?».
Агнес, улыбнувшись этой мысли — едва заметно улыбнувшись, лишь краешками губ, — продолжала молчать.
— Что означает твоя улыбка? — насторожилась тетка. — Ты думаешь о какой-то очередной пакости? Так не улыбаются, думая о Боге. Так улыбаются, думая о шашнях с любовником…
— Я не улыбаюсь, — перестала улыбаться Агнес.
— Нет, я вижу, ты недооцениваешь мою решимость, не видишь всю серьезность моих намерений… Скажи мне только его имя, — настаивала аббатиса. — Это было бы первым признаком твоего исправления; этим ты смягчила бы свое наказание и сама помогла бы с корнем вырвать из твоего сердца воспоминание об этом гнусном человеке.
В воображении Агнес вдруг предстали Иво Шенкенберг и его старуха, их хитрые лица, многозначительные взгляды; и всплыли в памяти бесконечные речи их, начинающиеся ласковым голосом, вкрадчиво, а кончающиеся черно, едва не сквернословием. Как они старались оклеветать Габриэля, всячески очернить его! Пели ей по очереди свои гадкие песни… Не хотела ли почтенная аббатиса использовать то же средство, чтобы вырвать «греховное воспоминание» из сердца Агнес? Аббатиса была похожа на ту старуху… Кто скажет, узнай она имя Габриэля, не те ли бы песни опять услышала Агнес?.. И девушка мысленно поклялась никому не открывать имени любимого до тех пор, пока он сам не даст на это согласия.
Аббатиса все выжидала, глядя на нее, как ястреб на свою жертву.
— Ну, скажешь? — спросила она наконец с возрастающим гневом. — Откроешь имя человека, овладевшего сердцем твоим?
— Нет, — холодно ответила Агнес. — Мне вам сказать нечего.
— Тогда убирайся с глаз моих долой! — прошипела старуха.
Агнес ушла, не чувствуя никакого раскаяния.
— Подожди, я отучу тебя говорить «нет»! — пробормотала аббатиса, провожая девушку злобным взглядом.
До Агнес еще донеслись эти слова.
С той поры у Агнес не было в монастыре ни одного спокойного дня. Тетка старалась отучить ее говорить «нет», причем действовала, похоже, по определенному плану. Придирки и наказания градом сыпались на голову Агнес. Ей пришлось оставить полюбившуюся ей комнату и поселиться в простой монашеской келье; сначала один раз в неделю, затем два и три раза питаться лишь хлебом и водой, во время общих трапез принимать пищу в одиночестве на каменном полу, в то время как другие сидели за столом. К Агнес приставляли то одну, то другую монахиню, которые не давали ей покоя ни днем, ни ночью, все время увещевали ее и по сто раз читали одну и ту же молитву; потом Агнес оставляли по целым неделям в одиночестве и никому не разрешали перекинуться с ней хотя бы единым словом. Только аббатиса каждую субботу вечером спрашивала: «Скажешь?» — и Агнес в конце каждой мучительной недели с неизменным упорством отвечала: «Нет».
Разгневанная аббатиса не уставала придумывать все новые виды наказаний: она приказала запирать на ночь Агнес в церкви, заставляла ее после богослужения ложиться навзничь перед лестницей, по которой проходили монахини, так что те перешагивали через ее тело; тетка Магдалена приказала остричь прекрасные волосы Агнес и надеть на нее одеяние кающейся грешницы; наконец велела запереть ее в тесную темную келью, где бедная девушка, как тяжкая преступница, должна была спать на каменном полу, на соломе, и питаться лишь хлебом и водой, которые ей три раза в неделю подавали через узкое отверстие в стене. Однако все эти испытания Агнес превозмогала с мыслями о любимом. Каждую субботу вечером шипящий голос злобно спрашивал через это отверстие: «Скажешь?» — и каждый раз из кельи мягкий, страдальческий, с каждым днем слабеющий голос отвечал: «Нет».
ысланные из Таллина 22 января 1577 года разведчики принесли весть, что к городу подступает большое русское войско и что оно уже достигло Иыэлахкме.
Донесли, что в войске у русских тысячи всадников, а воинов пеших — не счесть, и пушек, сказали, много — больших и малых. Бургомистры Фридрих Зандштеде и Дитрих Корбмахер велели объявить об этом народу на большом рынке и призвали население не бояться, не бежать, а стойко оборонять город.
Горожан, по правде говоря, не очень-то и пугала предстоящая осада, так как городские стены были высоки и крепки, город кишел воинами, пушек и боевых припасов было собрано огромное количество. В замке расположился шведский губернатор, храбрый и опытный военачальник Хинрих Хорн со своим испытанным в боях отрядом; несколько дней тому назад в город прибыли также Каспар фон Мённикхузен и Иво Шенкенберг с остатками своих отрядов.
Мызных воинов опять постигла неудача: русские неожиданно напали на них в Куйметса и Ууэмыйза и обратили их в бегство. Особенно тяжким был этот удар для военачальника мызных людей. Мённикхузен отдал все свои денежные средства и имущество для снаряжения войска, надеясь, что вдесятеро возместит свои расходы военной добычей, разгромив русских и захватив подвластные им эстонские и ливонские земли. Однако планы его рухнули в единый миг — в тот миг, когда, устрашенный мощным натиском русских, бежал его первый рыцарь. Потом не выдержали и другие рыцари, показали спины. Иным удалось уйти, многие сложили головы; ополченцев полегло без счету… Теперь Каспар фон Мённикхузен был беден как церковная мышь; он потребовал возмещения убытков от шведов, не оказавших ему поддержку, которую обещали, но те не пожелали дать ни ему, ни другим рыцарям даже жалкой милостыни, а напротив, сами потребовали возмещения убытков, нанесенных мызными людьми шведским подданным, жившим в Харьюмаа и Ляэнемаа. Нетрудно себе представить, как это несчастье угнетало гордого Мённикхузена, вынужденного распустить прислугу и кухарок и принужденного собственными руками печь для себя хлеб. Но ничего с этим нельзя было поделать; древние говорили: времена меняются…
От Иво Шенкенберга в последнее время счастье тоже отвернулось. Он встретил достойного противника: русские двинули против него хорошо вооруженный отряд из крестьян Вирумаа и Ярвамаа, который вел молодой князь Гавриил Загорский. Таким образом, здесь эстонцы воевали с эстонцами. Оба отряда были храбры и опытны в военном деле, оба хорошо знали все дороги и самые захолустные места страны, оба имели искусных военачальников, но победа все же склонилась на сторону Гавриила. Он не давал Иво передышки, преследовал его по пятам, нападал на него и днем, и ночью и, наконец, заставил его бежать без оглядки из открытой местности и искать убежища в стенах Таллина. Звезда Иво закатилась, и никто уже не называл его Ганнибалом Эстонии, и никто не спешил подать ему при встрече руку, в то время как имя Гавриила Загорского гремело по всей Эстонии, наводя страх на противников и одновременно уважение — уважение к талантливому полководцу.
Отзвуки славы князя Загорского проникали и в кельи монастыря Бригитты, где при упоминании его имени монахи и монахини осеняли себя крестом; не достигали эти отзвуки только того глухого уголка, где томилась в заключении Агнес фон Мённикхузен; бедняжка вообще не имела представления, что делается в мире.