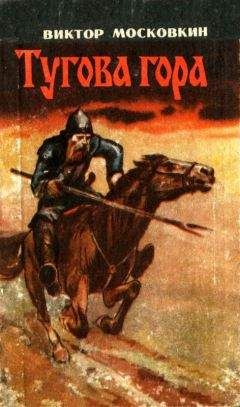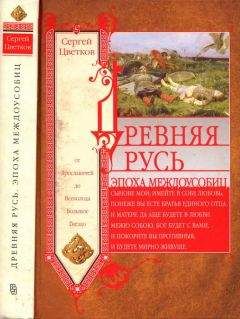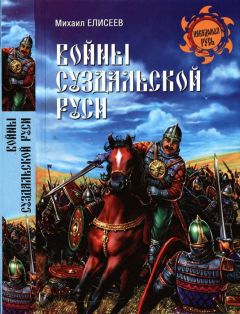— Спасибо тебе! — Константин на мгновенье смешался, неуверенно спросил: — Хочешь в дружину?
«Некогда воинскому делу учить, а он, наверно, на коня не садился», — подумалось ему.
— Дозволь в битве рядом с тобой быть, — горячо попросил юноша. — Лучшей радости для меня не надо.
— Добро. Спросишь Данилу Белозерца, выдаст воинскую справу.
В келье игумена тишь, с воли не доносится ни звука. И сам Афонасий будто из другого мира.
— О чем скорблю. После того как полонили нас татарове, не попал ты в хронику среди оставшихся в живых князей русских.
Константин фыркнул, так позабавили слова игумена.
— А что же ты, отец Афонасий, не спросил у моей матушки. Сказала бы тебе, что ждет меня, и внес бы в хронику. Я начинаю сомневаться в твоей мудрости, святой отец.
— Ты можешь смеяться над старым. Но ты, князь, — рюрикович, и о тебе должна быть память.
— Какая забота! Я есть, и этим все сказано.
— Хроника нужна не нам, а людям, что будут после нас.
— Ладно, — отмахнулся Константин. — Мне рассуждения твои непонятны. Зная тебя, угадываю, что за ними скрываешь что-то другое, главное.
Игумен согласно кивнул.
— Угадываешь, князь. Кого ты повелел разместить в святом месте? Уж не язычников ли?
— Вон ты о чем! — Лицо Константина запылало гневом. Горящим взглядом ожег Афонасия, проговорил зло, с презрением: — Люди на смерть пришли, как мужики из деревень, что, вон, заполонили город. Перед смертью все равны! А тебе не дают покою лесные отшельники, десятину ты с них не берешь в пользу церкви. Так знай, с них я беру вдвое — за себя и за церковь. И нечего тебе было жалобиться митрополиту Кириллу. Кто тебя толкнул на жалобу?
— Спросил он — ответил. — Робкий, неустойчивый по натуре своей, игумен пытался оправдаться, гнев князя испугал его.
— Повелел я разместить в монастыре три сотни воинов, — жестко продолжал Константин. — Но это еще не все. Буду присылать других.
— Непомерную тяжесть, княже, накладываешь на монастырь.
— Отец Афонасий, люди, может, завтра падут на поле брани, а ты о своих запасах печешься. Не думай, что, если татары войдут в город, оставят тебя в покое. Повеленье Батыя не трогать русских попов — для нынешних ордынцев пустое слово. Камня на камне не оставят, сам не убережешься. А ты о запасах монастырских. И вот что! — Константин опять посуровел. — Смерды из монастырских деревень, кои захотят пойти в битву, — не чини им помех. Проверю!
— Князь, церковь тебе опора, — напомнил игумен.
— Знаю! Но не станет она опорой, если пойдет против воли людской.
— Я, внучек, тоже склоняюсь — встретить супостатов на подходе, в лесах. В лесу-то и рать нашу не сочтут, Будь у нас воинов побольше — честь бы и слава выйти в чистое поле.
— Приметил я, батюшка-боярин, место — лучшего не найдешь. Холм под городом на суздальской дороге. Лесом да болотами закрыт этот холм. Там и надо встретить ворогов.
— Надобно посмотреть…
Гудели натруженные за день ноги, тяжесть была во всем теле, но Третьяк Борисович старался выглядеть бодрым. В такое время не должно показывать старческую немощь. Сам-то он ничего уже не ждал от жизни, прожил со достойно — сомневался и беспокоился за судьбу воспитанника. Но когда молодой князь появился с дружинниками Александра Ярославина, когда в городе в великом множестве объявились поселяне с жаждой схватиться с Ордой, вдруг поверил: может, это и есть зачин? А что, если и вправду поднимется на Руси люд, сбросит ненавистное иго? Негоже ему, старому воину, быть в стороне.
— Надобно все посмотреть на месте, — повторил боярин.
Выехали к вечеру. С собой взяли переславского сотника Драгомила, Евпраксию Васильковну и умельца строить лесные завалы Окоренка…
Кони вымахнули на поросший густым лесом холм. Сзади остался город, видимый как на ладони, с каменными постройками Спасского монастыря на берегу Которосли, ремесленными слободами, Рубленым городом с золотившимися в закатном солнце главами Успенского собора; удивляла Волга: в безветрии и при солнце — она была покрыта ребрышками волн. Глядя на нее и чувствуя себя нездоровым, Третьяк Борисович сказал:
— Быть ненастью.
— Вот, батюшка-боярин, — не обратив внимания на замечание старика, стал объяснять Константин, — я тут все осмотрел. Впереди у нас дорога на Суздаль. Левее — овраг. За ним — непролазное болото. Татары тут не пойдут, завязнут. — Князь повернулся к Окоренку. — Ставь невысокую засеку, она нужна только затем, чтобы от стрел хорониться. Сечи тут не может быть.
Старый боярин одобрительно кивнул; разумные сказаны слова.
Поскакали дальше.
— Справа опять болото, — продолжал рассказывать о своем замысле Константин, — но с кустами, с островками. Татарская конница вскачь тут не помчится, но конь пройти может, пусть не скоком, но пройдет. Не дай бог, мы будем отбиваться, а они обойдут нас и ударят сбоку, к городу подойдут. Какая уж там битва, когда услышим плач матерей своих, сестер.
Оглядывая видные с холма дали, каждый невольно подумал, сколько воинов встанет на защиту города и сколько выставят войск татарские военачальники, которые привыкли побеждать многолюдством.
— Я решил… — Константин оглянулся на боярина: тот был безучастен, и это его смущало. — Решил, боярин-батюшка, так: у Евпраксии Васильковны отменные лучники, сам видел. Пусть они укроются по всему болоту в кустах, в закрадках, как охотники на утицу.
— Зрелому уму подсказки не надобны, — обронил Третьяк Борисович.
Это была похвала опытного воеводы, и Константин не скрыл на лице горделивого довольства.
— Вы хотите, — улыбнулась Евпраксия Васильковна, — чтобы и я со своими воинами пряталась в кусте-закрадке? Я подчиняюсь, князь, но для меня надежней меч, чем лук с калеными стрелами.
Ей, в молодости бросавшейся в битву вместе с супругом своим, показалось стыдным сидеть в кусту и ждать, пока на тебя наткнется татарский всадник.
— Прости, княгиня, не в обиду будь сказано. — Константин стеснялся этой необычной женщины. — Твоим лучникам не понадобится воевода, потому как каждый из них станет сам себе воеводой, будет сражаться в одиночку, стрелами встречать врага. Окоренок! — крикнул он. — Здесь, справа холма, поставить плотные засеки. Мало ли что может быть: прорвутся — встретим топорами, рогатинами.
— Твой приказ, князь. — Старик поклонился.
— На засеках поставим через одного лучников, чтобы оберегали мужиков от стрел татарских.
— Разумно, князь, — опять коротко вымолвил Третьяк Борисович.
Вмешался сотник Драгомил, все время до этого молчаливо слушавший:
— Если князь хочет и на дороге сделать засеку, то что останется воинам? Как они померяются силами, покажут удаль? Засеки нужны, чтобы с боков нас не смяли. Дорога для сечи должна быть открытой. В ином случае мы простоим, сдержим татар — они придумают, как обойти нас.
Константин посмотрел на боярина, тот, догадавшись, о чем он подумал, кивнул.
— Дорогу мы оставим открытой. Здесь встанут самые опытные воины.
В тот же вечер…
Незнамо откуда пришли тучи. Загрохотало. Хлынул проливень.
Третьяк Борисович, задыхаясь до этого от какой-то душевной тяжести, вдруг ожил, сказал Константину:
— Внучек! Больше всего хочу, чтобы ты жил. Мало ныне стало настоящих князей.
— Зачем ты меня, боярин-батюшка, ранее времени хоронишь? Видел, сколько людей пришло пострадать за волю? Я среди них.
— Знаю, вижу! Но к тебе не пришел ростовский князь со своей дружиной, не пришли другие. Сомнения меня гложут.
— Пустое! — Константин старался быть веселым. — С тобой мне, боярин, ничего не страшно.
В тот же вечер…
— Князь, ты забыл, кто поднимал княжество из руин, устраивал его. Не брат ли твой, Василий Всеволодович?
— Княгиня Ксения! Я чту своего брата, и я уверен: он поступил бы так же, как я сейчас.
— Не верю этому. Ты готовишь разорение города, устроенного не тобой. Все говорят: ты зарвался, не слушаешь никого.
— Княгиня Ксения, я не живу в верхних женских покоях и не знаю, что говорят там обо мне.
— Значит, все будет нарушено, повержено? Город будет разграблен?
Константин вспылил:
— Что вы все о городе! Да разве за наш город пришли люди биться? Свободы они хотят, понятно ли тебе, княгиня?
— Мне все понятно.
В тот же вечер…
Никого не принимали так искренне, так любовно, как Константина. Он поднял в эти дни руку на ворога, ему верили… Люди гордились им. Но с любовью одних выплескивалась ненависть супротивников.
Хлестал дождь. В кромешной тьме пробирались к боярину Тимофею Андрееву на сход. В гостиной палате было душно и полутемно — свечей много не зажигали. В углу, в одежде черницы, с закутанным по глаза лицом, сидела княгиня Ксения. Бояре сопели в теплых одеждах.