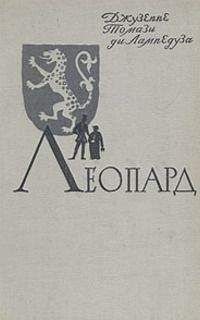Под канделябрами, под пятиярусными вазами, возносившими к небесам пирамиды всегда остающихся нетронутыми профитролей, — утомительное изобилие обычных для таких балов кулинарных изысков: кораллового цвета лангусты, сваренные живьем, вязкое желтоватое фрикасе из телятины, плавающие в соусе серебристые окуни, очищенные от костей бекасы на янтарных холмах подрумяненных хлебцев, посыпанных фаршем из потрохов, жирные розоватые печеночные паштеты под желатиновым панцирем, галантины, прозрачные, как утренняя заря, и еще с десяток других трудно перевариваемых деликатесов самых разных цветов и оттенков. По краям стола — две монументальные серебряные супницы с отливающим темным золотом консоме. Чтобы все это приготовить, поварам на больших дворцовых кухнях пришлось, вероятно, с прошлой ночи трудиться без отдыха.
«Сколько же добра, черт побери! Донна Маргерита знает, как принимать гостей. Жаль только, что все это не для моего желудка».
Даже не обратив внимания на стол с напитками, сверкавший справа хрусталем и серебром, он направился к левому столу со сладостями. Золотистые бисквитные бабы с шапками из взбитых сливок высились там, как заснеженные монбланы, миндальные дофины с фисташками красовались бело-зелеными узорами, горки шоколадных птифуров, темных и жирных, как перегной в долине Катании, из которого путем долгих превращений они, по существу, и произошли, соседствовали с разноцветными пломбирами — розовым, цвета шампанского, цвета беж, и когда в них входила лопатка, они отслаивались с легким хрустом. Красные засахаренные черешни, стопки желтых кисловатых ананасных кружочков, «триумфы чревоугодия» с зеленой кромкой из молотых фисташек, бесстыдные «пирожные Девственницы»… Последних дон Фабрицио попросил положить ему два, и теперь, с пирожными на тарелке, представлял собой кощунственную карикатуру на мученицу Агату[79], выставившую напоказ свои отрезанные груди. «Почему же Святая канцелярия, когда еще была в силе, не додумалась запретить эти пирожные? Или те, что возносят хвалу чревоугодию? Чревоугодие ведь смертный грех! Груди святой Агаты пекут в монастырях и за милую душу поедают в праздники, ну и ну!»
Стоя посреди пропитанного запахами ванили, вина и сахарной пудры зала, дон Фабрицио огляделся по сторонам в поисках свободного места. Заметив его, Танкреди похлопал по пустому стулу возле себя, давая понять, что место для него за их столиком осталось неприкосновенным. Сидящая рядом с ним Анджелика смотрелась в перевернутое серебряное блюдо, чтобы убедиться в безупречности своей прически. Дон Фабрицио улыбнулся, помотал головой в знак отказа и продолжал обводить глазами зал. От одного из столиков до него донесся самодовольный голос Паллавичино: «Самое сильное впечатление моей жизни…» Рядом с полковником было одно свободное место. Не стоит ли, уже довольно наслушавшись этого краснобая, предпочесть пусть не совсем искреннюю, но все равно располагающую сердечность Анджелики и колкие остроты Танкреди? Нет, лучше скучать самому, чем нагонять скуку на других. Попросив разрешения, он сел рядом с полковником, который поднялся ему навстречу, чем несколько смягчил сердце Гепарда. Он не спеша ел бланманже, наслаждаясь изысканным сочетанием фисташек с корицей, и разговаривал с Паллавичино. Без своих приторных фраз, предназначенных в первую очередь дамам, полковник производил совсем иное впечатление: он явно был не дурак и, главное, — «синьор», как и сам князь. Глубокий классовый скептицизм, обычно не смевший и носа высунуть из-за пламенеющего воротника берсальерского мундира, обнаруживал себя, когда Паллавичино оказывался в окружении людей своего круга, вдали от жеманных поклонниц и казарм с их неизбежной риторикой.
— Теперь левые готовы меня распять за то, что тогда, в августе, я приказал своим ребятам стрелять по отряду Гарибальди. Но скажите, князь, что я мог сделать, имея письменный приказ? Должен, однако, признаться: когда там, на Аспромонте, я увидел сотни оборванцев, одни из которых показались мне неисправимыми фанатиками, а другие — профессиональными бунтовщиками, то счел для себя за счастье выполнить этот приказ; если бы мы не открыли огонь первыми, эти люди сделали бы из моих солдат и из меня отбивную котлету. Возможно, потеря была бы невелика, но в конечном счете наше поражение спровоцировало бы французское и австрийское вмешательство, а за ним и волну беспорядков, в которой захлебнулось бы чудом возникшее Итальянское королевство. Действительно, мне до сих пор непонятно, как это произошло. Я вам больше скажу, только это между нами: наше молниеносное наступление в первую очередь оказалось на руку самому Гарибальди, оно освободило его от прилепившегося к нему сброда, от всех этих типов вроде Дзамбьянки[80], которые использовали его в своих целях, возможно и благородных, но совершенно непригодных, а может быть, даже, кто знает, в интересах Тюильри и палаццо Фарнезе[81]. Какой разительный контраст с теми, кто высадился в мае шестидесятого в Марсале: те люди или, по крайней мере, лучшие из них были искренними приверженцами объединения Италии, хотя и считали, что к цели надо идти революционным путем и действовать теми же методами, что и в сорок восьмом. И он, генерал, понимал это, потому что в момент моего всем уже известного коленопреклонения пожал мне руку с большой симпатией, какой просто невозможно ожидать в отношении того, кто пять минут назад всадил пулю тебе в ногу. И знаете, что сказал мне тихим голосом этот человек — единственный порядочный человек из всех, кто находился тогда на вершине этой злосчастной горы? «Спасибо, полковник». Спасибо за что? — позвольте спросить. За то, что я сделал его хромым на всю жизнь? Безусловно, нет! Он благодарил меня, что я открыл ему глаза на хвастовство, больше того, на подлость его так называемых единомышленников.
— Прошу прощения, полковник, но вы не находите, что слегка переусердствовали с расшаркиванием, комплиментами, целованием рук?
— Откровенно говоря, нет! Это было искреннее проявление чувств с моей стороны. Надо было видеть этого великого человека, беспомощно лежащего на земле под каштаном, страдающего телом и еще больше — душой. Как его было жаль! Несмотря на бороду и морщины, он показался мне ребенком, да он всегда и был им, неосмотрительным, доверчивым, наивным ребенком. Меня мучили угрызения совести, я всем сердцем сожалел в эту минуту, что выстрелил в него. Я, князь, целую только женские руки, и тогда я тоже поцеловал руку-спасительницу спасительницу королевства, синьору, которой все мы, военные, должны отдавать почести.
Князь подозвал проходившего мимо лакея и попросил принести ему кусок бабы и бокал шампанского.
— А вы, полковник, ничего не хотите?
— Нет, ничего, впрочем, может быть, тоже немного шампанского.
Он продолжал говорить, и было видно, что эти воспоминания о считанных выстрелах и бессчетных хитростях и уловках не отпускают его и продолжают волновать, что характерно для таких людей, как он.
— Когда мои берсальеры разоружали людей генерала, те ругались и проклинали — кого бы вы думали? Его, Гарибальди, расплатившегося собственной кровью. Подло, но вполне естественно. Они понимали, что этот великий и бесхитростный, как дитя, человек ускользает из их рук, а с ним ускользает и единственная для них возможность спрятать концы в воду, скрыть свои темные дела. И даже если моя признательность этому человеку может показаться чрезмерной, я не жалею о своем поступке. У нас в Италии любезности, реверансы и целования рук никогда не бывают лишними, это самые сильные наши политические аргументы.
Он выпил шампанского, которое ему принесли, но оно лишь добавило горечи его словам.
— Вы не бывали на континенте после образования нового королевства, князь? Тем лучше для вас, впечатление не из приятных. Никогда еще мы не были так разобщены, как теперь, после объединения. Турин хочет остаться столицей, Милан считает нашу администрацию хуже австрийской, Флоренция опасается, что у нее отнимут произведения искусства, неаполитанские мошенники боятся лишиться куска хлеба, а здесь, в Сицилии, зреет большая, непоправимая беда… В настоящее время, во многом благодаря усилиям вашего покорного слуги, о красных рубашках не вспоминают, но скоро вспомнят, поверьте моему слову. Сейчас другой цвет в моде, но красные рубашки еще вернутся. Вы спросите, чем все это кончится? Говорят, надо надеяться на итальянскую Звезду[82]. Что ж, блажен, кто верует. Но вы-то лучше меня знаете, князь, что даже постоянные звезды на самом деле совсем не постоянны.
Он начал пророчествовать, возможно, шампанское слегка ударило ему в голову. У дона Фабрицио сжалось сердце от тревожных мыслей.
Бал продолжался, а между тем было уже шесть часов утра. Все изнемогали от усталости и давно мечтали о своих постелях. Но уехать рано — значит обидеть хозяев дома, дав им понять, что праздник не удался, а ведь они потратили на него столько сил!