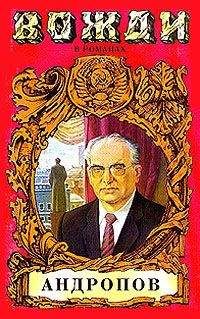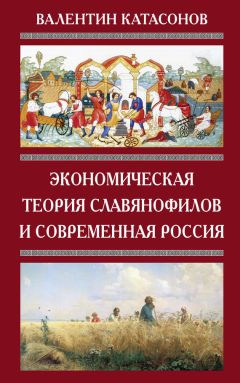— А нашего брата нет,— сказала Вика.
— То есть? — не понял я.
— Колю Кайкова в подземном переходе перехватили. Мы с ним договорились у театрального киоска встретиться. Прихожу, Коля уже ждет. И тут меня — представляешь? — два типа опередили. Один, такой весь из себя вальяжный, взяв Николашу под руку, говорит: «Вряд ли, Николай Семенович, читателей «Вечерней Москвы» заинтересует ожидаемый инцидент». И увели, сердешного. Хорошо, не успела подойти. А то и меня бы за компанию прихватили.
— Но почему? — не мог понять я.
— Арик! Не заводи меня! Почему! Потому — вот и весь ответ. Советские корреспонденты на сегодняшний спектакль не допускаются. Почему? Начальству виднее. Видишь? Здесь ошиваются только твои коллеги. Отечественные средства массовой информации представляю, похоже, только я, потому как свободный художник. А вообще, Арик, что-то не так. Уж больно тихо, даже чинно. Хотя милиции нагнали… Ты видишь, сколько их?
Действительно, я как-то сразу не обратил внимания. Милиционеры синели своими шинелями под деревьями, на заднем плане предстоящего события, в конце сквера Их было много, похоже, они взяли в каре весь этот скверик между памятником Пушкину и кинотеатром «Россия». Несколько желтых милицейских машин стояло за сквером со стороны серой громады «Известий».
Народ все-таки прибывал. И не только зарубежные корреспонденты. Появились роскошно одетые дамы, чинные мужчины в строгих костюмах, группы молодых людей и девушек, тоже одетых модно и ярко. Люди обменивались рукопожатиями, тихо разговаривали.
Нарастало нервное напряжение.
Стрелки на круглых часах показывали уже десять минут двенадцатого.
— Идут! Идут! — взорвал странную полутишину радостный мальчишеский голос.
Они появились со стороны кинотеатра «Россия», их ряды как бы вырастали из-под кинотеатра — от него к скверу вверх вела небольшая лестница. Я успел сосчитать — в каждом ряду было по шесть человек.
Они молча, неторопливо, но все же печатая шаг, шли к памятнику. («И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал…»)
Молодые люди в черных рубашках, некоторые в черных сапогах, все в черных фуражках с фашистской свастикой. Сейчас не могу утверждать, что именно так, но, кажется, в каждой шестерке был один с повязкой на рукаве: на белом фоне крупная красная свастика. Стройные, спортивные фигуры, у большинства из-под фуражек — длинные волосы. Лица напряжены, но спокойны. Они шли молча.
И вокруг все смолкло. Появилось даже ощущение, что на улице Горького остановили движение (но это, конечно, было только ощущение, иллюзия). Лишь мерцали вспышки фотокамер. Я лихорадочно сделал несколько снимков, стараясь поймать на крупный план наиболее выразительные лица, меня охватил привычный профессиональный азарт, и на какое-то время я забыл о Вике.
Самое невероятное заключалось в том, что молодым русским фашистам ничего не препятствовало: милиция бездействовала, люди в синих шинелях даже не приблизились к черной колонне, в которой было, я думаю, человек пятьдесят, не больше.
Они подошли к памятнику русскому поэту («…Что в мой жестокий век восславил я свободу…»), остановились. И, похоже, не знали, что делать дальше. На многих лицах возникла растерянность. Или разочарование. Не знаю, что точнее.
— Смотри! Смотри! — Вика, появившись сзади, схватила меня под руку.— Смотри!
Один из молодых людей, высокий, светлый, с правильными, резкими чертами славянского лица, поднял над головой… Как сказать? Портрет? Да, пожалуй, так, портрет двух людей: на профиль Гитлера чуть-чуть накладывался профиль Сталина, и оба вождя, выполненные художником резко, грубо, но с впечатляющей силой, как бы слились в смертном объятии, призывая своих последователей идти в бой за великую Идею до конца.
Вокруг молодца с портретом началось какое-то движение, суета, защелкали фотокамеры, замерцали магниевые вспышки (я успел сделать два снимка, и оба они — что выявилось при проявлении — оказались неудачными, не в фокусе, смазанными). Где-то рядом прозвучала негромкая команда.
Все остальное произошло в прямом смысле мгновенно.
Возле молодого человека с портретом быстро, профессионально оттеснив его соратников, возникло несколько милиционеров, портрет тут же исчез.
— В стороны! — прозвучал властный голос.
И молодые люди в черных рубашках, в фуражках со свастикой беспрекословно, даже поспешно расступились. Трое милиционеров быстро повели светловолосого юношу — прямо через низкие голые декоративные кусты — к желтой машине. Двое держали его под руки, третий подталкивал в спину. А молодой человек все оглядывался, и на его лице теперь были детская обида и страх.
— Да я же его знаю! — прошептала мне в ухо Вика.
Он все оглядывался, оглядывался…
И видеть мог поверх голов только Александра Пушкина на своем пьедестале, в задумчивости склонившего голову. («…И милость к падшим призывал».)
Хлопнули дверцы — одна за другой, и желтая машина, сорвавшись с места, умчалась, как будто ее и не было.
— Так кто же он? — спросил я.
— Господи! Да он же сын Заграева! Заграева Владимира Павловича. Имени сынка не знаю.— В голосе Вики появилось раздражение, так мне хорошо знакомое: за ним может последовать буря.— Я у этого партбосса интервью для радио брала. Представляешь, Арик, пригласил для этого идиотского интервью к себе домой: «На работе по душам поговорить не дадут». И ты, пожалуйста, не ревнуй, я бы и сама с ним справилась… Словом, через десять минут нашей беседы стал приставать со всякими гнусными предложениями. Но тут появился сынуля, незапланированно. Оказывается, сбежал с лекций, он на журфаке МГУ.— Вика возбужденно тряхнула головой, отбрасывая со лба прядь своих замечательных рыжих волос (я так люблю запутаться в них рукой, когда мы плывем на «нашем ноевом ковчеге»).— Ни хрена себе! Сынок товарища Заграева — фашист!
— А Заграев этот — кто? — спросил я.
— Замдиректора… Или первый зам, как там у них называется? В Институте марксизма-ленинизма. К тому же он у них секретарь партийной организации да еще член ЦК партии. Фигура.— Голос Вики задрожал от злости.— Скотина. Однако что же получается? Если и другие сегодняшние демонстранты детки таких же родителей? Интересно, интересно… Есть о чем подумать. Ты согласен?
— Согласен. Но почему эти молодчики появились тут именно сегодня, двадцатого апреля?
— Арик, Арик! — замахала руками Вика.— Не удручай меня своим невежеством. Все-таки надо знать биографии великих людей двадцатого века. Нет, ты только посмотри!
Да, было на что посмотреть: молодые русские фашисты разрозненными группами покидали площадку вокруг памятника Пушкина. Им никто не мешал, милиция опять бездействовала. Журналисты тоже расходились, похоже, весьма разочарованные.
Я взглянул на часы — было двадцать две минуты двенадцатого. Вся «акция» длилась чуть больше десяти минут.
— Чувствую,— Вика опять взяла меня под руку, зябко поежившись,— не все ты просекаешь в том, что произошло. А в руках у тебя материалец — будь здоров! Послушай, паренек, хоть и весна, а я что-то промерзла. Наверное, от голода. Толком не позавтракала. Мама захворала, кашляет, банки ей ставила. Ты меня накормишь?
— С огромным удовольствием! Сам тоже… После твоего коньяка проглотил бутерброд с сухим скрюченным сыром.
— Так…— Вика стала деловой.— Что рядом? Кафе «Лира». Не годится, там одна зеленая молодежь, будут на нас смотреть как на стариков. За «Елисеевским» ресторан «Русская кухня». Не подходит — туда уж больно важная публика ходит, с тугими кошельками. Щеки раздуют и по часу в меню копаются. Пошли в Дом актера. Кухня неплохая, народ свой, демократический. Ведь мы с тобой демократы? — И Вика поволокла меня к переходу. Уж больно она возбудилась. С чего бы? — Но, Арик, никакого алкоголя. Тебя ждет небольшой политический ликбез на тему… Сам понимаешь какую. Согласен?
— Согласен, согласен! — засмеялся я.
Господи! Как мне с ней хорошо!
Юрий Владимирович Андропов в одиночестве пил чай с сухариками в третьей, дальней комнате своих апартаментов на Лубянке. Спальня, как, пожалуй, следовало бы ее назвать, если бы эта комната не была проходной.
Было без четверти одиннадцать вечера.
Председатель КГБ удобно, расслабившись, сидел в мягком кресле, вытянув ноги и полузакрыв глаза. Усталость. Ноющая боль в левом боку. Слабость. И — чувство удовлетворения.
«Молодец полковник Рябинин. Надо отметить. Итак, «акция» удалась. А Иван Палыч уже трижды прорывался с разговором. Ничего, пусть немного подождет.— Андропов улыбнулся.— Плод должен созреть. Пожалуй, сегодня заночую здесь. С утра много работы. Придут эксперты, будем уточнять тезисы к докладу, уже послезавтра… Да, не забыть о звонке министру обороны. Можно и сейчас, Дмитрий не обидится. Впрочем, нет, неудобно. Завтра. Завтра утром».