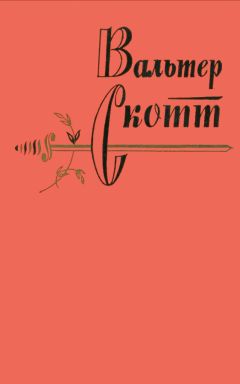Фёргюс в двух словах объяснил по-французски Уэверли, что за семь лет до этого, во время стычки близ Тулли-Веолана, барон застрелил сына этого старика, а затем Мак-Ивор поспешил рассеять предубеждение Бэлленкейроха, сообщив ему, что Уэверли — англичанин, ни родством, ни свойством не связанный с домом Брэдуординов, и лишь тогда старик поднял свой не тронутый дотоле кубок и вежливо выпил за здоровье Эдуарда. Последний ответил тем же, после чего хозяин подал знак, чтобы музыка прекратилась, и громко произнес:
— Где же спрятана песня, друзья мои, что Мак-Мёррух не может ее найти?
Мак-Мёррух, фамильный бард уже преклонных лет, понял Фёргюса с полуслова. Тихим голосом и произнося скороговоркой слова, он запел бесконечные кельтские стихи, принятые слушателями со всеми признаками восторга. По мере того как лилась его декламация, он, казалось, все более воодушевлялся. Сначала он говорил, устремив свой взгляд в землю; теперь он обводил глазами гостей, как будто прося, а то и требуя внимания, и голос его поднялся до диких и страстных нот, сопровождаемых соответственной жестикуляцией. Эдуарду, который следил за ним с большим интересом, показалось, что он перечисляет большое количество собственных имен, оплакивает мертвых, обращается к отсутствующим, увещает, умоляет и ободряет слушателей. Уэверли послышалось даже собственное имя, и он был убежден, что не ошибся, так как все взгляды в это мгновение устремились на него. Воодушевление поэта, видимо, передавалось аудитории. Дикие загорелые лица приняли более суровое и энергичное выражение; все склонились вперед к сказителю, многие повскакали с мест и в исступлении размахивали руками, а некоторые даже схватились за мечи. Когда песня закончилась, наступило глубокое молчание; в это время певец и слушатели немного успокоили свои возбужденные чувства и пришли в обычное состояние.
Хозяин, который в течение всей этой сцены, по-видимому, больше интересовался чувствами, вызванными песней, нежели проникался общим энтузиазмом, налил бордоским стоявшую перед ним небольшую- серебряную чашу.
— Передай ее, — сказал он слуге, — Мак-Мёрруху нан Фонну (то есть певцу), и, когда он выпьет сок, пусть хранит на память о Вих Йан Воре оболочку плода.
Дар был принят Мак-Мёррухом с глубокой признательностью; он выпил вино, поцеловал чашу и благоговейно завернул ее в складки пледа на своей груди. Но вот он снова запел. Это была, как верно заключил Уэверли, импровизация, выражавшая наплыв благодарных чувств, охвативших его, и славословие предводителю. Эта песня была также встречена рукоплесканиями, но не произвела столь сильного впечатления, как первая. Было, впрочем, ясно, что клан очень одобрительно отнесся к щедрости своего вождя. Произнесено было множество традиционных здравиц на гэльском наречии, которые хозяин переводил своему гостю:
— За того, кто не отвернется ни от друга, ни от врага!
— За того, кто никогда не бросал товарища!
— Приют изгнаннику, из тирана — мешок костей!
— За молодцов в тартановых юбках!
— Горцы, плечо к плечу!
За ними последовали и другие, столь же энергичные пожелания.
Эдуард особенно любопытствовал узнать содержание той песни, которая вызвала столь бурные страсти у собравшихся, и спросил об этом хозяина.
— Я заметил, — ответил тот, — что вы уже три раза пропустили мимо себя бутылку, и хотел предложить вам пойти в комнаты моей сестры на чашку чая. Она сумеет объяснить вам все это много лучше, чем я. Хотя я не имею права стеснять людей своего клана в их пиршественных обычаях, но сам я отнюдь не сторонник излишеств в этом отношении и, — добавил он с улыбкой, — не держу у себя медведя, способного поглотить разум тех, кто мог бы применить его с пользой.
Эдуард охотно согласился, и хозяин, сказав несколько слов окружающим, встал из-за стола вместе с Уэверли. В то время как за ними закрывалась дверь, до Эдуарда донеслись дикие и буйные возгласы— это провозглашали тост за здоровье Вих Иан Вора, означавший удовлетворение его гостей и выражавший всю глубину их преданности своему вождю.
Глава XXI СЕСТРА ВОЖДЯ
Гостиная Флоры Мак-Ивор была обставлена самым простым и непритязательным образом, так как в Гленнакуойхе приходилось сокращать все расходы для того, чтобы поддерживать в полном блеске гостеприимство, столь необходимое для сохранения и увеличения количества приверженцев и вассалов Вих Иан Вора.
Эта бережливость не распространялась, однако, на одежду самой хозяйки, изящную и даже богатую, с большим вкусом сочетавшую парижские фасоны с более простыми модами горной Шотландии. Волосы ее, не обезображенные искусством парикмахера и ниспадавшие черными как смоль кольцами на шею, были охвачены тонким обручем, богато украшенным бриллиантами. Это была ее уступка горским предрассудкам, не допускавшим, чтобы женщина до замужества прикрывала чем-либо свои волосы.
Флора Мак-Ивор была настолько разительно похожа на своего брата Фёргюса, что они могли бы сыграть роли Виолы и Себастьяна с тем же исключительным обаянием, которого, достигали в этих ролях миссис Генри Сиддонс и ее брат мистер Уильям Мерри. У них была та же античная правильность профиля; те же темные глаза, ресницы и брови; тот же чистый цвет лица, с тою разницей, что брат от постоянного пребывания на воздухе сильно загорел, в то время как лицо Флоры отличалось девственной нежностью. Только правильные, суровые и несколько высокомерные черты Фёргюса приобретали у Флоры очаровательную мягкость. Даже интонации были у них одинаковые, хотя голос брата был ниже голоса сестры, и когда во время военных упражнений Фёргюс подавал команды своим подчиненным, звук его голоса напоминал Эдуарду любимый отрывок в описании Эметрия:
Чей глас гремел на расстоянье,
Как громкий горн с серебряным звучаньем.
А голос Флоры был тих и нежен — «ценное для женщины свойство», но когда ей попадалась тема, способная возбудить ее природное красноречие, он мог вселять благоговейный трепет и уверенность или покорять вкрадчивой убедительностью. Блеск карих глаз, которые у Фёргюса загорались нетерпеливым огнем даже тогда, когда на его пути попадались препятствия, на которые он не мог непосредственно воздействовать своей волей, приобретал у его сестры мягкую задумчивость. Во всем облике его сквозило стремление к славе, к власти, ко всему тому, что могло возвысить его над другими людьми; между тем как в выражении лица сестры можно было прочесть сознание собственного духовного превосходства и не зависть, а жалость к тем, кто старался еще более возвыситься. Чувства ее вполне соответствовали выражению ее лица. Воспитание с детских лет внушило ей, равно как и ее брату, безграничную преданность изгнанной династии Стюартов. Она считала, что долг брата, его клана и вообще всякого человека в Британии, невзирая ни на какой риск, способствовать той реставрации, на которую не переставали надеяться сторонники шевалье де Сен-Жоржа. Ради этой цели она была готова все сделать, все перенести, все принести в жертву. Но ее преданность отличалась от преданности ее брата не только своей фанатичностью, но и чистотой. Он был привычен к мелочным интригам и по необходимости вовлечен в сотни жалких столкновений чужих самолюбий. При этом он был от природы честолюбив, и соображения выгоды и карьеры, весьма легко переплетающиеся с политическими взглядами людей, если и не окрашивали его убеждений, то, во всяком случае, придавали им определенный оттенок. В минуту, когда он обнажил бы свой меч, трудно было бы решить, хочет ли он сделать Иакова Стюарта королем или Фёргюса Мак-Ивора — графом. В этом смешении чувств он не признавался даже себе самому, но тем не менее оно существовало, и притом в достаточно высокой степени.
В груди Флоры, напротив, преданность Стюартам горела чистым огнем, без примеси себялюбивого чувства; она скорее пошла бы на то, чтобы замаскировать честолюбивые или корыстные намерения религией, чем скрыть их под личиной взглядов, которые с малолетства ей было внушено считать патриотическими. Такие примеры преданности были нередки среди последователей несчастной династии Стюартов, и большинству моих читателей, верно, придет на память много знаменательных тому примеров. Но особое внимание, проявленное шевалье де Сен-Жоржем и его супругой к родителям Фёргюса и его сестры, а когда дети осиротели, и к ним самим, сделало их верность нерушимой. После смерти родителей Фёргюс некоторое время состоял пажом в почетной свите супруги претендента и заслужил ее особое расположение своей красотой и живостью характера. Эти милости распространились и на Флору; несколько лет она воспитывалась за счет принцессы в одном из лучших монастырей и покинула его лишь для того, чтобы вернуться к брату, с которым она провела почти два года. Как брат, так и сестра хранили глубокую и благодарную память о доброте принцессы.
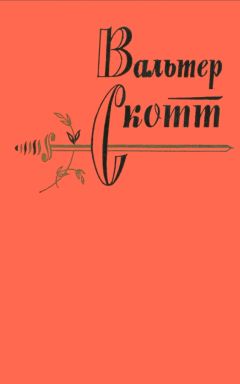
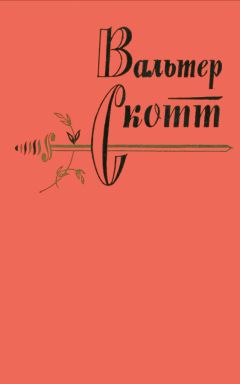
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)