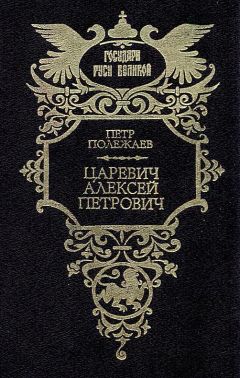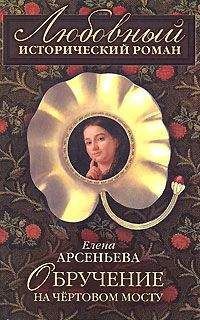Довольно решительный тон царевича раздражил графа Толстого почти до исступления, как обыкновенно случается при неожиданной встрече отпора от лиц, от которых не ожидали сопротивления. Петр Андреевич выпустил ноготки.
— Если ты не возвратишься, тогда царь будет считать тебя изменником и не отстанет, пока не получит тебя живого или мертвого. Мне приказано не удаляться отсюда прежде, чем возьму тебя… Если бы и перевезли тебя в другое место, то и туда буду следовать за тобою!
Понятно, до какой степени этот резкий тон напугал царевича, которого привести в полное расстройство и отчаяние достаточно было одного грозного взгляда, одного жеста, напоминавшего тяжелую руку отца. Царевич бросился к вице-королю, схватил его за руку и увлек в другую комнату.
— Скажите, ради Бога, если отец вздумает требовать меня с оружием в руках, могу ли я положиться на протекцию цесаря? — спросил он порывисто и задыхаясь.
— Его цесарское величество с удовольствием видел бы примирение вашего высочества с родителем, но если вы считаете небезопасным возвратиться, то вполне можете положиться на покровительство императора, который настолько силен, что может защитить принятых им под свое покровительство во всех случаях.
— О, благодарю Бога, теперь я спокоен и останусь здесь, так как без явной опасности воротиться не могу и ни под каким видом не хочу попасть в руки отца, — положительно объявил царевич графу Дауну.
Затем, воротясь в кабинет, где ожидал граф Толстой, царевич высказал уклончиво:
— В настоящее время я ничего не могу сказать положительного. На письмо же отца отвечать буду и тогда изложу мой окончательный ответ, — решил Алексей Петрович, оканчивая аудиенцию.
Свидание опять не принесло никакой пользы; мало того, оно даже как будто отдалило посла от назначенной цели. Петр Андреевич теперь очутился в самом неприятном положении: видимо, на царевича не действовали ни угрозы, ни ласка, ни убеждения — употребить же силу, захватить, наложить, как выразился император, руки, сколько ни обдумывал тайный советник, а не представлялось никакой возможности. Царевича оберегали зорко, даже и на аудиенцию к вице-королю привозили всегда в закрытой карете под надзором надежного караула. А между тем во что бы то ни стало, а необходимо достигнуть цели — к Петру нельзя вернуться с пустыми руками! И заработала изобретательная голова графа Толстого во всю свою мочь.
Добродушного фельдмаршала и вице-короля Петру Андреевичу обойти не стоило большого труда. Граф Даун ему вверился почти безусловно, и даже сам стал видеть в возвращении сына долг христианский, которому каждый обязан помогать всеми силами. Притом же пребывание русского царевича, не то принца, не то арестанта, не мало тяготило вице-короля, не знавшего даже, как и титуловать непрошеного питомца! Граф Даун не желал ни на йоту отступать от приказаний императора, в совести считал даже малейшее отклонение от них преступлением, но… как понимать самое приказание, когда применение его чрезвычайно разнообразно? Правда, император категорически запретил выдавать царевича в случае его отказа вернуться к отцу, но вместе с тем приказал склонять его воротиться… Какие должны быть меры к такому склонению?
И добрый Петр Андреевич постарался помочь разрешению недоумения.
— Склонять царевича, — внушал граф Толстой вице-королю, — значит показать явно, что цесарь оружием защищать его не будет, что и резону в том для цесаря никакого нет. Хоть прежде была обещана ему протекция, но это обещание уже и выполнено… Отец объявил прощение, написал об этом к сыну и к цесарю грамоты с заклинанием Божиим, то какое же основание цесарю протестовать? Теперь отказ — одно уже упрямство, за которое нет повода цесарю начинать новую войну, имея уже у себя на руках две… а следовательно, необходимо будет цесарю выдать его против воли отцу.
— Правда, правда… — подтвердил граф Даун, — какая тут новая война, когда у нас дома хлопот полны руки.
Послушайте только, что здесь толкуют… сколько изменников! Того и жду, что десант гишпанский подойдет, а мне здесь с одними своими силами против гишпанских войск и своих изменников не управиться… Нужна помощь, а лишних войск нет… все двинуты к Турции.
— Вот видите и сами, почтеннейший граф, что цесарю нет резона расходиться с моим государем. Поверьте, что он вам будет очень благодарен, если вы уладите дело о царевиче и не доведете до разрыва с московским царем. Уладить же можно только одним способом: когда царевич не будет надеяться на помощь цесаря.
— Правда, все правда, милейший граф, — согласился Даун, — только сурово толковать-то с царевичем не приходится, приказа нет… да совестно как-то… Нельзя ли как-нибудь иначе?.. Постращать бы…
— Да как же иначе постращать, ваша светлость? — удивился граф Толстой.
— Не касаться бы вопроса о протекции… Опасно, да и неловко… Сначала все говорил одно, а потом вдруг заговоришь другое… Надобно бы иначе… Да… вот что я придумал, — самодовольно сообразил граф Даун, — с царевичем живет какая-то переодетая по-мужски женщина, и эту женщину, как мне докладывали, он крепко любит, обойтись без нее не может. Попробую я постращать, что император приказал отослать эту женщину. Оно и вероятно. Цесарю, как свояку, конечно, неприятно видеть у родственника наложницу…
— Что ж, попробуйте, ваша светлость, только все-таки главное необходимо вырвать у царевича надежду на протекцию. Не будет надежды, не будет и упрямства, поверьте мне, — настаивал граф Петр Андреевич, который, как человек никогда не испытавший нежного чувства любви, не придавал особой цены сердечным увлечениям.
Граф Толстой совершенно перетянул на свою сторону вице-короля, но в этом он приобрел себе еще не очень большую помощь. Граф Даун оказывался человеком неподходящим и неспособным хладнокровно опутывать кознями невинного, а потому и необходимо стало отстранить его от дальнейших переговоров. На это не потребовалось большого труда. Петр Андреевич, заявив графу, что ведение переговоров в королевском дворце неудобно, что перевозка царевича каждый раз в закрытой карете с конвоем неприлична и небезопасна, предложил на будущее время свидания установить в самом замке Сент-Эльмо, в присутствии особого доверенного лица. На это предложение вице-король согласился без всякого колебания; а так как ему самому тяжело было ездить в Сент-Эльмо и еще тяжелее присутствовать при переговорах, то он вместо себя командировал фельдцейхмейстера фон Венцля.
Отстранив таким образом главное препятствие к своему насильственному давлению на волю царевича, Петр Андреевич занялся приисканием себе деятельного и способного помощника, которого и скоро нашел в лице Вейнгардта, секретаря вице-короля, пользовавшегося особенной доверенностью своего принципала. Вейнгардт — молодой человек, приятной, симпатичной наружности, обаятельных манер, жуир, баловень женщин, с резко выдающимися способностями и замечательным умом, соединявший ненасытную жажду наслаждений всевозможных, самых разнообразных видов: женщинами, вином, игрой и кутежами. Наслаждения, конечно, требовали средств, далеко превышающих его умеренное жалованье и скромное наследственное достояние. Недостаток в средствах заставлял его прибегать к беспрерывным долгам, изворотливости и к поступкам, далеко отходившим от строгих правил нравственности. Петр Андреевич оценил способности молодого человека и сумел ими воспользоваться.
Уговорить Вейнгардта принять деятельное участие было нетрудно ловкому Петру Андреевичу. Да и как бы не сочувствовать и не помогать доброму тайному советнику в таком хорошем деле, как примирение отца с сыном, в особенности же когда от такого сочувствия после первого же свидания с тайным советником в тощем кошельке молодого человека зазвенело более полутораста золотых червонцев, а в голове заиграла надежда на еще большую награду.
Взявшись за дело, Вейнгардт поспешил заслужить свои сребреники и тотчас, в то же утро несчастного второго октября навестил царевича.
Тяжелые дни переживали Алексей Петрович и Афрося, дни тревожного раздумья, как поступить и как определить свое будущее. К несчастью, теперь-то, в эти критические дни, когда только в единении могла быть сила, способная поддержать друг друга, впервые между ними появилась рознь. Царевич не желал возвращения, не верил отцовскому прощению, смотрел на него, как на тенеты, из которых, запугавшись, ему уже не выбраться; в незаслуженном прощении он слышал не кроткий голос отца, готового с любовью принять блудного сына, а неумолимый приговор, который лишит всего… может быть, даже и жизни.
Совсем иначе смотрела на все это Афрося. Как дитя низменной среды, без всякого внутреннего развития, она понимала в жизни только будничные явления, оставаясь совершенно чуждою к потребностям духа. Она томилась в чуждой стороне, где все было ей незнакомо: язык, нравы, обычаи и даже самая обстановка; тосковала о родном, грязном и затхлом, но ей памятном. Одна любовь, как бы ни было сильно это чувство, не в состоянии еще просветить до правильного сознания, до анализа совершающегося. Бесспорно, Афрося любила нежно и глубоко своего Алешу, но ее чувство походило на бессознательную привязанность животного, на преданность собаки. Она грустила, жалела Алешу, находя каким-то чудным, чуть ли не юродством, безмолвное, почти восторженное созерцание таких простых будничных вещей, как деревья, море, закат или восход солнца, отражение лучей в морских волнах, не понимая, как это Алеша не спешит воспользоваться прощением отца, не спешит уехать отсюда в родное гнездо, не в столицу, конечно, а в какую-нибудь Грачевку. И она молча, с сердечным замиранием следила за борьбою Алеши.