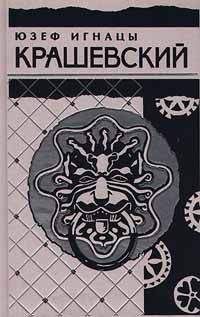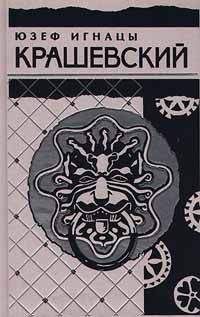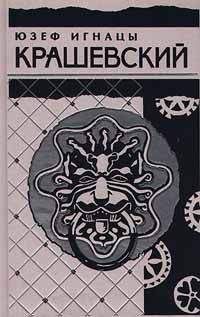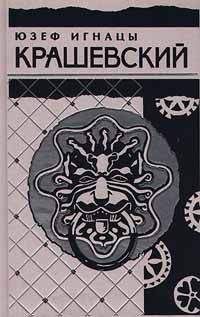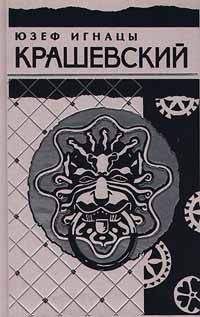Мать также прогоняла его, и он должен был уходить в переднюю избу и сидеть там в уголке на лавке, слушая младенческие речи Христа.
А в Кракове, в замке, с каждым днем становилось все безлюдней. Бегство Христа раздражало короля и угнетало; он приписывал его поповским козням и измене. Он ходил по опустевшим комнатам, заглядывал в темные углы, иногда впадал в неописуемую ярость, а тогда избивал и умерщвлял все, что попадалось под руку.
Со дня убийства не проходило дня без огорчения… что не утро, кого-нибудь не досчитывались. Король посылал то за тем, то за другим… не приходили, и вокруг не осталось ни одной души, за исключением горсточки придворных, дружины и небольшого числа ратных людей для защиты замка.
Его гордость не мирилась с очевидностью войны, объявленной ему всей страною, своему законному властителю. С другой же стороны, не уступали также из-под замка собравшиеся полчища земских людей и рыцарства, не хотевших иметь его на королевстве. Он же не уступал им Вавеля. Часто, назло своим противникам, король выходил или выезжал из замка в одиночестве; медленно проезжал через их стан, дразнил их своим видом и, безоружный, как бы вызывал на бой. Тогда, увидев его, люди отворачивались, притворяясь, что не видят; когда звал, делали вид, будто не слышат; когда спрашивал, не отвечали. А робкие обращались в бегство. Никто не покушался на него, но всякий избегал.
Что ни день, то становилось хуже.
Костелы все позакрывались. Не было ни благовеста, ни молитвы; алтари стояли без ксендзов; народ, крещеный, принявший христианство, в особенности в городах, тщетно домогался исповеди, венчаний, похорон. Ксендзы закрывали перед паствой двери.
Король попытался, было, послать уполномоченных в Познань, в Гнезно, в Плоцк, в Вроцлав,[24] требуя, чтобы съехались епископы. Все отвечали, как один, что не хотят иметь дела со святотатцем и убийцей и подставлять головы под меч. Таков был общий смысл отказов, составленных то в мягких, то в резких выражениях.
Король скрывал свой гнев под злобною усмешкой, пожимал плечами и вел прежний образ жизни, не обращая ни на что внимания. Только в замке с каждым днем все более пустело, и даже чернь было трудно зазвать едою и питьем.
При короле осталась только кучка верных болеславцев, решившихся пожертвовать собою, ради данной клятвы. Также обе королевы и их придворные русины. Замок был отрезан от всего мира, как остров среди океана. Под конец никто уж не хотел даже говорить с обитателями замка; не смели сесть с ними за стол, ни подать руку.
Бессильная ярость короля разбивалась о молчаливое, холодное упорство всей страны. Никто не нападал, но и никто не хотел знать его. Бесконечно долго, в молчании, исполненные ужаса, тянулись дни на Вавеле: дни без завтрашнего утра. Болеславовы придворные страшились за участь короля и хлопотали за него. В то время епископом Вроцлавской епархии был Ян Ястшембец, старший сын Одолая. Буривой, посоветовавшись с братьями и не доложив королю, собрался в Вроцлав к епископу. Он мало знал дядю по отцу, но верил кровным узам и надеялся найти у него защиту и совет. Отправляясь в путь, он оделся по-иному, чтобы люди не догадывались о его придворном звании. А так как многие знали его в лицо, то пришлось пробираться в Шлензк[25] лесами и проселками, что очень удлинило путешествие.
Только выбравшись на волю вольную, он увидел, как трудно спасти короля. Все были против него; духовенство вселило ужас даже в сердца простонародья, на которое рассчитывал король, и запугало чернь. Никто не собирался защищать человека, душа и тело которого были во власти сатаны.
Рыцарство и земские люди всюду брали верх, сеяли ужас, никто не смел заикнуться против них. Многие еще помнили времена, наступившие после изгнания Казимира, когда все государство пришло в смятение, покрылось развалинами и погорелищами. Опасались их возврата, а потому в тревоге и в молчании ожидали какого-то конца. Никто не смел поднять голос за короля, хотя, быть может, многие его жалели.
Уже росла молва о чудесах, совершавшихся у гроба мученика, об орлах, охранявших его изрубленные члены, о свете, исходившем по ночам из его могилы.
Буривой, таясь и укрываясь, чтобы не знали, ни кто он, ни зачем едет, прибыл, наконец, измученный и истомленный ко двору дяди. Здесь он заявил о своем родстве с епископом. Но толку было мало: его не скоро допустили.
Епископ Ястшембец был уже старик, ветхий годами, с длинной седой бородою; он опирался на костыль, но голова еще была свежа. Он унаследовал вспыльчивый нрав Одолая, значительно смягченный христианским воспитанием. Порывистость отца превратилась в сыне в неумолимую строгость.
Молчаливый клирик провел Буривого после продолжительного ожидания к епископу. Комната была занавешена от света, а старец сидел поодаль от окна, в кресле, обложенный подушками. Когда Буривой появился на пороге, епископ поднял на него выцветшие глаза, глядевшие из-под нависших седых бровей, и спросил скрипучим голосом:
— Ты из тех, которые были с королем?
— Из тех, которые при нем, — возразил Буривой со вздохом.
— Не подходи! Стой дальше! — крикнул епископ. — Не дерзай отойти от пооога! Что тебе здесь надо? Все вы прокляты вместе с королем! Не могу ни знаться с тобой, ни говорить. Прочь!
— Ваше преподобие, дозвольте…
— Впускать тебя не следовало, — продолжал кричать епископ, стуча о ручку кресла, — зачем сейчас не бросил короля? Епитимью отбыл? С церковью примирился? Убийцы, святотатцы!
— Как мог я бросить короля, — молвил Буривой, — когда все открещиваются от него и от нас, и мы нигде не можем найти спасения.
— Спасения! Нет спасения для безбожников, для убийц, погрязших во грехах, — сказал епископ. — А где же сам убийца?
— В замке, в Кракове.
— Значит, упорствует во злобе! Убийца своего и нашего приснопамятного брата! Облитый кровью, разлагающийся от разврата Каин!
Буривой смолчал. Епископ пронизывал его суровым взором, но, казалось, был не прочь помиловать его. Буривой, не зная, что сказать, спросил:
— Что должен сделать король, чтобы заслужить помилование?
— Разве может быть отпущено такое преступление? — вскричал ястшембец. — Святотатство! Отцеубийство! Только римский архиепископ, наш глава, может наложить на него епитимью… не легкую…
Буривой молча слушал, а епископ продолжал:
— Епитимья… с вервием на шее, босой, с зажженною свечей, годами пусть стоит у церковных врат; пусть отдаст церкви все достояние свое и уйдет из края. Ибо, осквернив себя кровью отца церкви, он не может быть помазанником Божиим.
Буривой весь вздрогнул. Епископ пристально следил за ним глазами.
— То же ждет и вас, его приспешников, бывших с ним. Ты был при том? Поднял руку?
Буривой не отвечал. Охваченный страхом и раскаянием, он низко опустил голову, как виноватый.
Его молчание было достаточно красноречиво.
Епископ протянул иссохшую, худую руку и указал на дверь, уставясь на Буривого дрожащими, безжалостными пальцами. Буривой не уходил.
— Чтоб духу твоего здесь не было! — кричал старый ястшембец обрывающимся голосом. — Vade retro! Vade retro!![26] Прочь! Отрекаюсь от родства с тобою! Прочь!
— Отче! — отозвался Буривой, обливаясь холодным потом. — Я уйду, но я здесь не ради себя, а ради господина моего. Скажите, что он должен сделать?
— Так полюбился вам, значит, этот изверг? — закричал ястшембец. — Так крепко держитесь за эту гниль, обреченную геенне огненной! Ага! Вы знаете, что связаны с ним преступлением! Туда же вам дорога, вместе с ним, в пасть дьявола….
— Спасите! — умоляюще воскликнул Буривой.
— Пусть во вретище идет в Рим. Пусть там у ног папы, святейшего отца, припав к стопам его, вымолит прощение! А королевство пусть оставит: пока он оскверняет эту землю своим присутствием — не дождаться ей ни бескровной жертвы, и благословения: плевелами порастет, в пустыню обратится, огонь пожрет ее, как Содом и Гомору!
Гнев клокотал в груди епископа. Буривой не смел сказать слова и хотел уже уйти, когда ястшембец его окликнул:
— Мне жаль тебя, — сказал он, — ежели раскаетесь ты и твои братья, я назначу наказание и выхлопочу прощение. Останься за оградой моего двора, за вратами, я обдумаю твою судьбу.
— Отче, — ответил Буривой, — смиреннейшую приношу вам благодарность. Но я еще в судьбе своей не волен и должен вернуться к господину своему.
Услышав слова Буривоя, епископ, трясясь от гнева, вскочил с кресла:
— Прочь, нераскаянный! Прочь, неисправимый, прочь бесстыдник! Ты возвращаешься к греховности своей, как пес к блевотине! Прочь, чтобы ноги твоей здесь не было, с глаз моих долой!
Епископ стал неистово бить в ладоши и, вытащив костыль, стучать им о пол в страшном гневе. Вбежал перепуганный церковник.