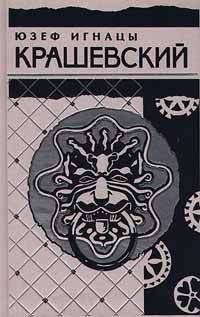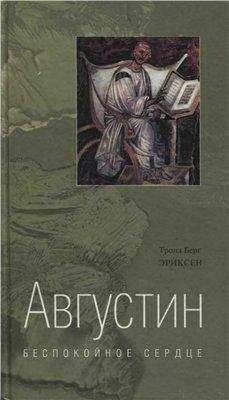— На Бога! — односложно ответил приор, не упавший духом после всех этих известий.
— Как так? Неужели вы настолько потеряли голову, что даже теперь мечтаете о сопротивлении? — смеясь, возразил ротмистр.
Все молчали, а Куклиновский остолбенел.
— Что это такое? Пыл? Сумасшествие? — воскликнул он спустя мгновение. — Вступайте в переговоры и спасайте свои головы; я католик, говорю в ваших интересах и ради вас, мне жаль вас.
Кордецкий горько усмехнулся.
— Что же прикажете ответить Миллеру, пославшему меня?
— Что мы видели знамена Вольфа, знаем о сдаче Кракова и молимся за его величество, короля польского.
— А переговоры вами начаты?
— О чем же еще договариваться, — гордо ответил приор, — к тому же с полководцем, который попирает все международные права, право войны, свято чтимые не только в христианском, но и в языческом мире? С человеком, для которого личность послов не священна, который их связывает и оскорбляет? Ответьте, что мы возобновим переговоры, когда он отпустит наших послов.
Куклиновский хотел продолжать, но Кордецкий отпустил его, сильно удрученный, но не побежденный. Он велел проводить парламентера до ворот, а сам с паном Замойским поспешил во внутреннюю крепость, где вид Вольфовских полков и польских хоругвей во власти шведа произвел невыразимо тяжелое впечатление. Во всех внутренних дворах он застал людей, коленопреклоненных в молитве; других плачущих и нарекающих на судьбу; третьи ломали руки; иные с тайной мыслью что-то шептали себе под нос. Всюду стоял гомон, каждый давал советы и противоречил остальным, а на лицах молчавших было написано отчаяние, страх, сомнение…
Пан Чарнецкий, в скуфейке из-под шлема, в лосиной куртке из-под брони, ходил, понурив голову, с руками за спиной и бормотал:
— Конец всему! Теперь эти трутни не захотят и драться! Женщины с младенцами, старые ксендзы, челядь, все высыпали
на стены и на дворы, цепляясь за башни, и, как во время пожара, заговаривали со знакомыми и с незнакомыми, расспрашивали, делились мыслями, откровенничали, сожалели.
И вот, среди всего этого шума голосов и соображений, появился Кордецкий. Он откинул каптур, закрывавший ему лицо, и заговорил:
— Возлюбленные дети! Краков сдался, шведы коварно захватили Вольфа, короля покинули на Спиже, Польша завоевана: мы дожили до величайших бедствий, и близка минута кары Божией за грехи людей. Но когда гнев Всемогущего достигнет высшей точки, тогда близится час Его милосердия! Ныне Бог доверил в наши руки величайшую миссию: нас, слабых и колеблющихся, Он восхотел поставить в пример всему народу. Мы, единственные, честно противимся шведам и выдержим, не обманув Божия доверия, до конца. Принесем покорность воле Божией на алтари; будем умолять Его. И в молитве, сильные внутренним согласием, мы победим!
С этими словами он показал на образ, написанный на внешней стороне часовни, и прибавил:
— Вот наше знамя, вот наша победа… прибегнем к Ее охране и не утратим мужества! Почему не дано мне влить силы в сердца ваши! О, Боже! Дай мне силы! Помолимся… помолимся!..
С последними словами настоятеля вся толпа, как один человек, заполнила часовню, с поспешностью и невыразимым подъемом сил: казалось, непреодолимая ревность к молитве гнала всех пред алтари; и как в пустыне израильтяне бросились черпать воду источника, брызнувшего из-под Моисеева жезла, так все устремились под икону своей Матери и Покровительницы. Музыка на башне заиграла Salve regina.[19]
Велика, о, велика сила молитвы, ибо она возвышает дух наш, очищает нас и таинственно преображает. Когда среди пения ксендзов, при звуке труб, литавр, органа, в один голос запели все присутствующие, так что своды церкви задрожали, и отзвук песнопений разнесся по окрестности, бедные солдаты Вольфа, стоявшие против часовни Божьей Матери, сняли шлемы с померкшего от тяжелых дум чела, встали на колени и преклонили знамена… Бедные пленники, их сердце было у алтаря, а оружие обращено против него.
Как только шведы заметили настроение поляков, полки Миллера принялись разгонять молившихся солдат, так что из крепости мало кто заметил их коленопреклоненные фигуры, свидетельствовавшие о том, что среди войск, осаждавших Ченстохов, было немало сынов Царицы Небесной, Владычицы здешних мест.
Миллер и Вейхард воображали, что задержание послов, появление Вольфа, вести о сдаче Кракова и об отступлении Чарнецкого в Бендин облегчат, приблизят капитуляцию монастыря. Наконец-то, граф мог сказать наверно: мы побеждаем! Он уже вперед наслаждался местью и тешился мыслью о том, как будет издеваться над гордыми монахами, осмелившимися его не слушаться. Велико было изумление в шведском лагере, когда вернулся Куклиновский с ответом: "пусть освободят послов".
Миллер вскочил с кресла:
— Сейчас… сейчас я их освобожу… когда пойдут на виселицу, — крикнул он. — Что они мне плетут о военном праве? Разве это крепость: это лисья западня, это сарай! А их солдаты и вожди? А их послы?
И он злобно засмеялся. Впав снова в ярость, он приказал как можно теснее обложить крепость, подойти к ней вплотную и изводить монахов, лишенных возможности защищаться, стрельбой и громким криком.
Сам же, чем дальше, тем больше теряя хладнокровие и омрачаясь духом, срывал свою злость на Вейхарде, виня его в своем посрамлении и неудачах.
— Кабы не ты, пан граф, — говорил Миллер, — я свободно и с полным комфортом отдыхал бы в Пруссии; там и страна получше, да кое-чего мы за это время, наверное, достигли; а тут стоим да позорно состязаемся с монахами и не можем с ними справиться.
— Да полно, пан генерал, мы уже у самой цели! — повторил Вейхард.
— Где же эта цель? Соблаговолите показать.
— Да ведь мы почти уже взяли Ченстохов, он уже при последнем издыхании… через несколько часов сдадутся. Вахлер ручается, что нет пороха, и гарнизон протягивает руки; помочь им только надо, они не прочь…
— Отчего же не сдаются?
— Надо устроить штурм, — ответил Вейхард.
Миллер рассмеялся.
— Без бреши? Не засыпав рвы?
— Северная батарея работает над проломом.
— Однако его еще не сделала; стены толстые, а ядра, точно одурели, летят Бог весть куда… Если бы не стыд, я бы давно снял осаду; есть в этой истории что-то непонятное…
— Действительно, это было бы позором для войска его величества. Виттемберг взял Краков, а Миллер не справился с Ченстоховом, а пан Кордецкий умеет обороняться лучше, нежели пан Чарнецкий, который собаку съел на ратном деле. А знаешь ли, пан генерал, сколько бы ты потерял, сняв осаду? Имеешь ли представление о богатствах костела?
— Досыта наслушался я от тебя о богатствах, милый граф; но и здесь ты, верно, малость привираешь, совсем как о сдаче, которою потчуешь меня чуть ли не каждый день!
— Богатства видел собственными глазами! — воскликнул Вейхард, играя на алчности шведа, которая была у него господствующей страстью. — Алтари почти целиком серебряные, украшенные самоцветными камнями от пола до потолка. Казна ломится от золота и драгоценностей, множество церковной утвари, жемчуга… даже статуи литые из драгоценных сплавов, и, по очень скромному подсчету, в ризнице должны лежать несколько сот тысяч талеров наличными. Не говоря уже о разных мелочах роскоши и комфорта…
Миллер слушал, и лицо его прояснилось; он начал улыбаться. В эту минуту ему подали письмо от Кордецкого; приор торопил его с тем же, что поручил Куклиновскому: требовал освобождения послов.
"Если бы, — так закончил настоятель свое письмо, — ты все же покусился на их жизни (чему не верим), то мы все отдадимся на волю Божию, без которой волос не упадет у нас с головы. Пусть умрут, если смертью своею должны искупить свободу, на страже которой все осажденные будут стоять до последнего издыхания".
Задумался старый полководец; непоколебимый в несчастии дух произвел впечатление на закоренелого вояку, однако впечатление было мимолетным, как блеск молнии. И сейчас же вслед затем он вспыхнул гневом, и самолюбие запело свою песню.
— Позвать сюда одного из тех монахов, — приказал он адъютанту.
И минуту спустя ввели связанного, бледного, измученного ксендза Блэшинского, остановившегося перед генералом в немом молчании; он был угрюм, но не пал духом. Целая ночь издевательств, проведенная без сна, вид еретических покушений шведов на святыни, словесные нападки на таинства веры и кощунственные действия сильно подействовали на священнослужителя, сломили его тело, так что он едва держался на ногах и обливался холодным потом. Но душа его тем ближе стала к Богу.
Миллер был один из тех, на которых страдание действует, как кровь, пролитая на поле битвы: она приводит в ярость. Он усмехнулся, увидев состояние ксендза, и сказал, показывая на монастырь: