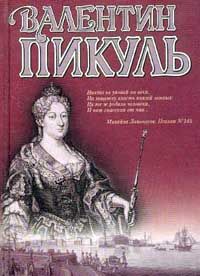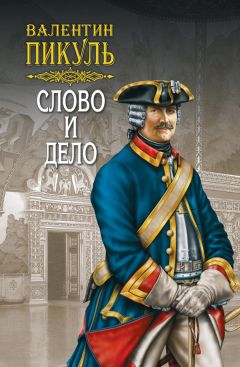— А когда вы, господин Бирен, мне отдадите? — спрашивал.
— Отстань! Отдам позже… — хмурился Бирен.
— Но, сидя взаперти, с чего разбогатеете?.. И вдруг случилось чудо: приполз сиятельный князь Алексей Черкасский да Бирена за руку сразу — хап, да губами ее — чмок, чмок, чмок… Смотрел снизу, словно собака, ласки отыскивая:
— Высокородный господин Бирен! Зачем света московского прячетесь? Не угодно ли ко мне в четверток на блины пожаловать?
Бирена даже в пот кинуло: ему? На блины? К такому вельможе? Да в Митаве-то фон дер Ховен далее крыльца своего не пускал… И Бирен тоже нагнулся, чтобы руку Черкасского поцеловать, но Черепаха застыдился, руку свою спрятал:
— Что вы, сударь… недостоин! Почту за честь… А вот беседовать им было не о чем.
— Охоту держите? — спросил Бирен, любезничая. — Слышал я, что псарни у вас богатые.
— Только прикажите, — засуетился Черкасский, — и завтра же в вашу честь охоту устроим!
— Благодарю, князь. Однако после дороги…
— Издержались? — подхватил Черкасский. — Так не угодно ли позаимствовать? Или в презент принять? Буду рад…
Бирен посмотрел на него, как кот глядит на необъятную крынку со сметаной: справлюсь ли в одиночку?
— Я, князь, — ответил, подбородок гордо вздернув, — делами денежными не ведаю. Да… На то у меня есть личный фактор Лейба Либман, которого и прошу вас принять завтра…
После князя Черкасского явился канцлер Головкин. Гаврила Иванович спины не ломал, руки Бирена не искал, но предупредил:
— Известно стало, что был у вас князь Черкасский, спешу предостеречь: наговорщик он и хулы разной распространитель. Да и скаредностью известен. Ежели вы в деньгах охоту иметь будете, прошу вас только ко мне обращаться…
— Хорошо, — сказал Бирен. — А нет ли у вас арапчат побойчее, чтобы не воровали? А для жены моей — калмычку бы почище…
Головкин обещал все исполнить. Потом притащился фельдмаршал заика Трубецкой, и Бирен вдруг почувствовал, что обрел силу:
— Я устал. Пусть фельдмаршал немного обождет… К мужу вошла горбатая Бенигна, шепнула на ухо:
— Эрнст, соберись с духом. Перемени парик и натяни перчатки. Тебя желает видеть его величество — самоедский король!
— Какой?
— Самоедский…
Раздался треск в дверях, и вошло чудовище… О, ужас! На длинных ногах, обтянутых узкими рейтузами, покоился круглый, как арбуз, живот. А почти над самым животом росла голова. Голова умника: лоб громадный, в шишках, глаза блестят, бородка острая, седая — словно у герцога Ришелье… Это странное чудовище расшаркалось перед дамой, предъявив владетельные грамоты:
— Мое королевство на острове Соммерс, а титул короля заверен императором Петром Великим, кроме того, я — магистр богословия.
Бирен опешил, но с грамот свисали подлинные печати.
— Проследуем же к императрице, — склонился он учтиво…
Анна Иоанновна, увидев «короля», закричала:
— Лакоста! Ах ты старая песошница! Как рада я, что ты явился. А то мне скушно без шутов… Ну-ка распотешь меня!
Бирен растряс в руке душистый платок, зажал им нос:
— Вонючий паук! Как ты смеешь портить воздух в присутствии ея величества? А я, осел, поверил твоим грамос там… Как ты, подлый дурак, попал во дворец?
— Да все через вас, через умников, — отвечал Лакоста, а царица, довольная шутом, хохотала. — Трещать же мне велел великий Блументрост. И можно сдерживать ревность, злость, отчаяние, зависть. Но только не это… Ваше величество, — поклонился шут Анне, — королю за все, что он сделал, полагается достойное!
Бирен возвратился в свои покои. А в узком проходе дворца (не избежать, не разойтись) шагал прямо на него, стенки обтерхивая, Алексей Жолобов… Человек ужасных нравов! Кулаками дрался, стулья из-под Бирена нагло выдергивал. И вот — встретились…
— Хорошо тогда сапоги мне вычинил, — сказал Жолобов Бирену с усладой в голосе. — Опосля тебя долго еще трепал… И верно, что приехал ты, гнида: на Москве сапожники завсегда нужны!
Бирен огляделся: «Какое счастье, что никто не слышит…» И побежал от митавского знакомца прочь. А в спину ему — хохот:
— Зачем спешить-то? У меня и эти сносились… Почини! Бирен бомбой влетел в гофмаршальские комнаты.
— Дружище, — сказал, — а какое место занимает Жолобов?
Рейнгольд Левенвольде встал и оглядел себя в зеркалах:
— Жолобов — президент статс-конторы… Что тебя взволновало?
— Добрый Рейнгольд, — взмолился Бирен, — не могу я видеть этого негодяя при дворе. В твоей власти запретить ему…
— Ты плохо понимаешь мою власть, — ответил Левенвольде. — Я ныне кое-что да значу… Вот и сегодня, помнится, в Сенате искали человека на иркутское губернаторство? Могу услужить тебе: Жолобова не будет не только при дворе, но даже в Европе…
Вечером Бирен уже зевал, пресыщенный, когда вбежал в покои Лейба Либман с лицом, искаженным в растерянности:
— Боже! Мы совсем забыли о фельдмаршале Трубецком!
— Как? — подскочил Бирен. — Он еще не ушел? Горбатая Бенигна послушала полночный бой часов:
— Хоть он и фельдмаршал, но разве можно быть таким настойчивым? Не пускай его сюда, я уже раздета…
Бирен открыл двери, и спина русского фельдмаршала согнулась в потемках перед ним надвое, переломленная в поклоне.
— Ну, сударь, — спросил Бирен, — что вам угодно?
— Явился почтение свое вашей особе свидетельствовать…
— А-а-а, — загордился Бирен. — Это очень хорошо. Только те, кто желал оказать почтение, еще раньше вас пришли…
И двери захлопнул. Трубецкой сыскал Лейбу Либмана, просил выручить. Митавский ростовщик был догадлив.
— Вы опоздали, — пожалел он боярина. — А теперь, видите, какая скопилась очередь к моему господину?
И показал фельдмаршалу список долгов, собранных им с курляндцев. Трубецкой по-немецки, да еще без очков, ничего не понимал. Разглядел только — цифры, цифры, цифры…
— Запишите и меня в сей брульон, — попросил, вытягивая кошелек с золотом. — А вас я не обижу… Сколько дать?
Первого апреля государева невеста, княжна Екатерина Долгорукая, родила в Горенках дочку. Взяла она подушку, на младенца навалилась и держала его так, под спудом, пока не посинел он.
Алексей Григорьевич от страха зашатался:
— Что наделала ты, ведьма? Цареву поросль придушила… Ведь пропадет фамилия наша теперича — без щита сего!
— Нет, тятенька! — ответила ему дочка. — Мне в монастыре век свой кончать желания нету. И вы дитем моим не загородитесь! А я отныне девица свободная. И не была я брюхата, и не рожала николи. Так и объявите по Москве, что я — девственна…
* * *
— А чего бояться-то? — сказала Наташа Шереметева. — Сфера небесная пусть обернется инако, а я докажу свету, что верна слову. «Ах, как она счастлива!» — кричали мне люди. А где они, эти люди?
«Ах, как несчастна она!» — кричали люди теперь, когда возок увозил Наташу в Горенки (там она и венчалась с Иваном). И не было уже толпы под окнами, лишь две убогие старушки, в чаянии подарков, рискнули на свадьбе мамками быть… За столом невеселым горько рыдал временщик, из фавора царского выбитый:
— Был я обер-камергер, и место мое по ею пору еще не занято. Нешто же немцу отдадут ключи мои золотые?
— Ах, сударь мой, — отвечала Наташа. — На что вам ключи камергерские, коли теми ключами и амбара не отворить?..
Привез Иван Алексеевич молодицу в свой дом. А там свара такая, что все родичи волосами переплелись. Каждый бранится, один другого судит, все высчитывают: кто более других виноват?
Невеста государева (Катька подлая) щипнула Наташу:
— Ишь, птичка шереметевская! Залетела на хлеба наши?
Наташа на подушки шелковые упала — заплакала:
— Боженька милостивый, куда ж это я попала? А в этот вой, в эту свару, в этот дележ добра — вдруг клином вошел секретарь Василий Степанов и сказал Долгоруким:
— Тиха-а! По указу ея императорского величества ведено всем вам, не чинясь и не умытничая, ехать в три дни до деревень касимовских. И тамо — ждать, не шумствуя, указов дальнейших…
Наташа вздохнула и князю Ивану поклонилась:
— Ну вот, князь Иванушко, получай конфекты на свадьбу…
Решили молодые наспех визиты прощальные на Москве сделать.
Василий Лукич им двери дома своего открыл.
— Сенатские были у вас? — спросил испуганно. — У меня тоже… Велят ехать. Дают мне пост губернатора в Сибири, но чую, для прилику по губам мажут. Сошлют куда — не знаю…
Фельдмаршал Василий Владимирович тоже молодых принял.
— Бедные вы мои, — сказал старик и заплакал… А другие — так: в окно мажордома высунут:
— Господа уехали, — скажет тот, и окна задернут… Шестнадцать лет было Наташе о ту самую пору. Но глянул на нее князь Иван и не узнал: сидела жена, строгая, румянец пропал, шептали губы ее…