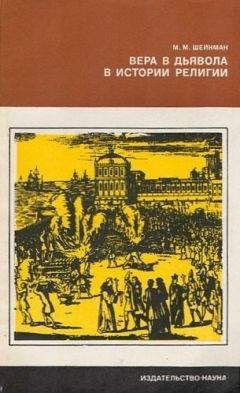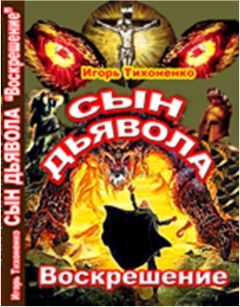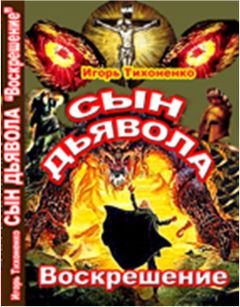мере, первое время. Слухи не умолкали, и постепенно он стал к ним прислушиваться.
Он подкрался к двери, соединявшей спальни, и осторожно приоткрыл ее на щелочку. Ничего не видно! Он расширил щель — и оцепенел. Перед ним стоял сам сатана. Исполинского роста в лунном свете, с рогами, козлиной бородкой и язвительной гримасой! Кёхлин хотел позвать на помощь, но чудовищный удар не дал ему произнести ни звука. Его, развернув, отбросило в сторону, и, падая, он ударился об угол стола. После этого мешком повалился на пол.
Но этого он уже не почувствовал.
Больше он никогда и ничего не почувствует.
На то, как Второй сын дьявола обезвредил выскочившего на шум супруга, Третий сын дьявола глянул лишь мельком. Он знал, что может положиться на своего сатанинского брата. Теперь его снова занимала Аугуста Кёхлин. Та от возни в комнате проснулась и, вглядываясь в темную тень над собой, взвизгнула:
— Кто… кто это?
— Тссс. — Третий сын дьявола больше не мог справиться с собой. Его рука выбросилась вперед, обхватила грудь рудо-копши и принялась ее мять, нащупав сосок, она стала тереть его. — Тссс!
Кёхлин, ни жива ни мертва от страха, лежала, не двигаясь, только тихо спросила:
— Это ты, Крабиль?
Третий сын дьявола продолжал свое дело, он мял, тер и пощипывал до тех пор, пока в штанах не стало мокро. Тогда он оставил грудь женщины и отступил на шаг, чтобы лунный свет упал на него и на Второго сына дьявола:
— Нет.
Кёхлин заверещала:
— Господи Иисусе! Рогатый! Рогатые!
Третий сын дьявола хихикнул под маской. Первый сын дьявола, как всегда, оказался прав. Женщина дрожала от страха как осиновый лист. Теперь она будет еще послушнее и усерднее служить им.
— Первый сын дьявола хотел, чтобы ты увидела нас во плоти. Видишь теперь, как плохи твои дела?
— Да, — жалобно проскулила толстуха.
Она и вправду еще никогда не видела своих повелителей. Даже тогда, в лесу, когда отовсюду раздавались голоса, отдававшие приказ ей и Друсвайлер. Потом они получали указания в тайных посланиях, которые сразу должны были сжигать. Откажись они их выполнять, им грозили семидежды семью смертями и адским огнем. На тысячу лет в тысяче футов под землей.
Какой ее тогда объял ужас! И как часто она потом проклинала, что умела прочесть пару слов!
А потом клевета оказалась доходным делом. Даже очень доходным. Для нее. И для Друсвайлер. Они донесли на Зеклер, обвинили ее в колдовстве, придумали истории с кровоточащим топором и варевом из детских пальчиков. И уже почти довели глупую торговку до костра. Если бы не вмешался этот Лапидиус…
— Вспомнила ли Зеклер о времени, проведенном… э… в горах? — спросил Третий сын дьявола. Он так низко склонился к Кёхлин, что маска покачивалась прямо перед ее лицом.
— Нн… ннет… наверное, нет.
И снова рука потянулась к обнаженной груди. Но на этот раз она больно щипнула ее.
— Ай! Ой-ёй-ёй! Я не знаю. Правда, не знаю. Нас не пускают к ведьме.
Рука на груди немного ослабила хватку.
— А что говорит Марта? Она согласна?
— Говорит, что Зеклер больна и за ней нужен уход.
— И больше ничего? Она не разговаривала с ведьмой?
Кёхлин попыталась освободиться от руки, сдавливающей грудь, но тщетно.
— Нет, и не хочет. Говорит, что не хочет и связываться.
— Так припугни ее! Не может быть, чтобы она жила под одной крышей с ведьмой и не слышала, что та говорит!
— Хорррошо, сделаю.
Медленно хватка ослабла. Третий сын дьявола нехотя убрал руку.
— Сделай все, чтобы разузнать. Это важно. Жизненно важно. Для тебя! И помни: мы еще вернемся! — Он достал из кармана три монеты и небрежно бросил их на пуховое одеяло. — Это тебе. Но их надо отслужить!
Больше не произнеся ни слова, Третий сын дьявола повернулся, прихватил с собой Второго и, хромая, пошел вон из дома.
К соседке, Марии Друсвайлер.
Поскольку после набега черни его кровать все еще стояла на трех ногах, ночь Лапидиус снова провел в кресле. Пусть это и любимое кресло, спал он отвратительно.
Он встал и размял косточки. В кухне все было тихо. Марта еще не принялась за будничные дела. Это пришлось кстати, можно спокойно совершить утренний туалет. Умывшись и одевшись, он постучал в комнатку служанки.
— Марта, ты проснулась?
Никакого ответа.
Его охолонуло дурное предчувствие. За последние дни так много всего произошло, что он настораживался по любому поводу. Снова постучал:
— Марта!
— Щас, чё тако? — раздалось изнутри.
— Слава богу, я уж думал, что-то случилось.
— Нее, нее. Я ж с Заступницай. Чё, поторопиться?
— Нет, поднимайся спокойно. Я пока загляну к Фрее.
Он взял воды и вчерашнего отвару и пошел наверх. Перед заслонкой камеры он поставил все на пол и отпер дверцу.
— Фрея!
Она лежала к нему спиной, скрючившись на тюфяке. Он наклонился и взял ее за плечи. И только теперь расслышал тихое поскуливание.
— Фрея, Фрея, скажи же что-нибудь.
Она так резко повернулась, что он отпрянул.
— Не хочу, не хочу больше! Больше не могу!
— Но ты ведь знаешь…
— Больше не выдержу! Выпустите меня, выпустите, выпустите, выпустите…
Ее всхлипывания перешли в безудержный плач. Лапидиус остолбенел. Он показался себе самым жестоким человеком на свете. А она снова начала умолять:
— Помогите мне! Выпустите меня, пожалуйста, выпустите!..
В его душе перемешались сострадание, умиление и беспомощность. Его вина, что она там страдает. Его и ничья больше! Ну, что он мог сказать?
— Что я могу сказать? — услышал он собственный голос, и это больше не было пустыми словами.
Она снова заплакала и отвернулась. Тогда он спустился вниз за лауданумом. А когда вернулся с лекарством, увидел, что у нее жуткие пролежни. На лопатках плоть стерлась чуть не до кости. Конечно, это должно доставлять невыносимые страдания. Не меньше, чем боль в суставах, колики и язвы во рту.
Он сказал:
— Я принес тебе лауданум, помнишь, капли из коричневого пузырька.
Она ничего не ответила, только продолжала всхлипывать. Лапидиус понял, что дальше так продолжаться не может. Надо было что-то делать.
— Давай, реви громче, — сказал он, надеясь, что его тон достаточно язвителен. — Громче реви, чтобы все слышали! Вой так, чтобы весь мир знал, как тебе паршиво! Оплакивай себя, захлебнись в собственных слезах! Тогда мне не надо будет зря тратить на тебя драгоценное лекарство. Могу его вылить, или подарить, или продать, мне-то оно давно не нужно.
Хныканье усилилось. Лапидиус уж подумал, что переборщил, как вдруг плач резко оборвался. Фрея повернулась


![Уильям Арден - Тайна пляшущего дьявола [Тайна танцующего дьявола]](https://cdn.my-library.info/books/208800/208800.jpg)