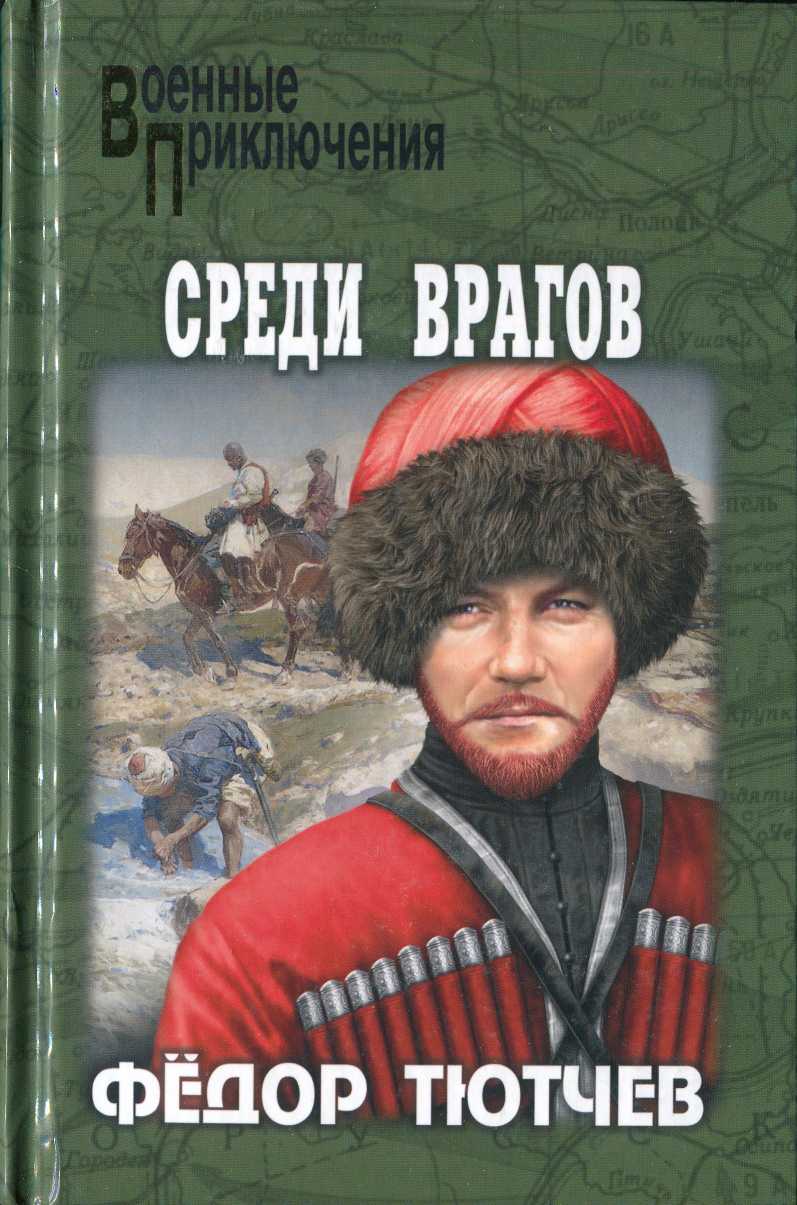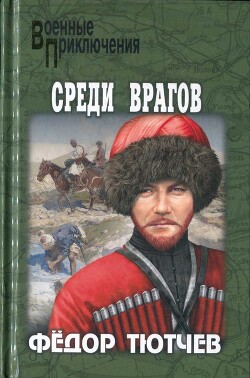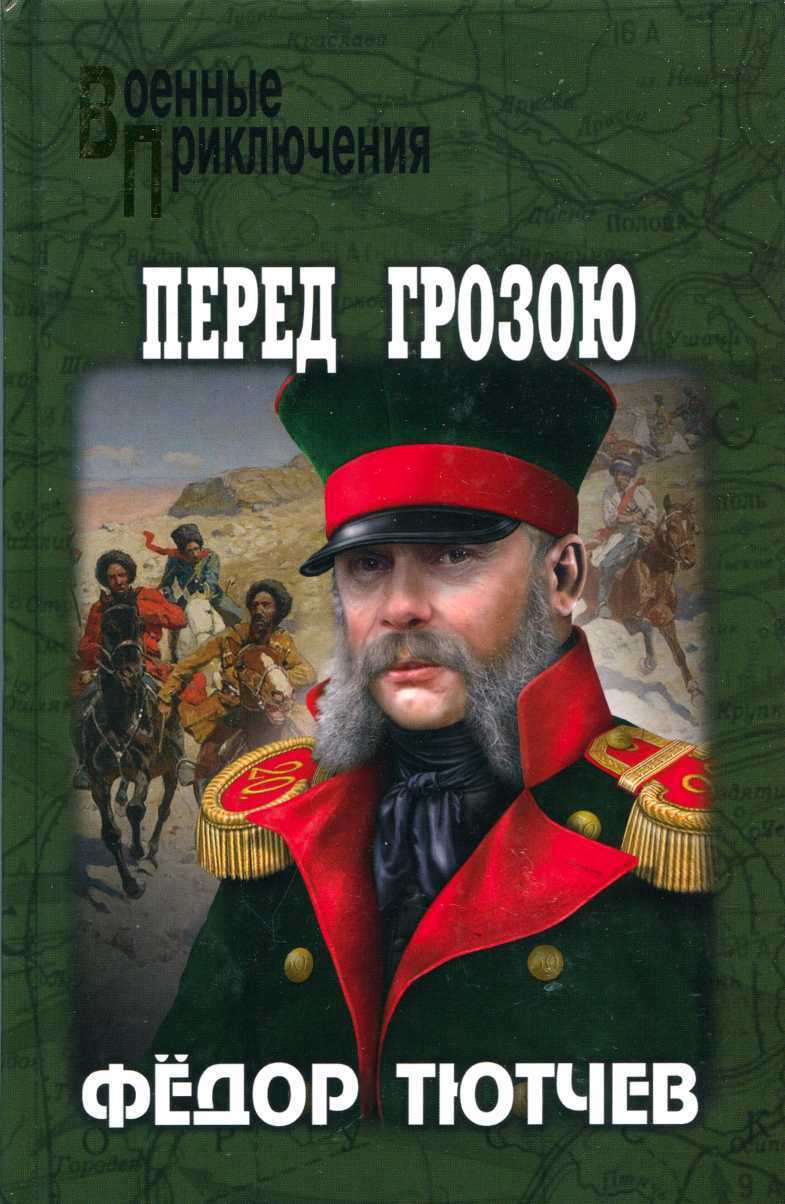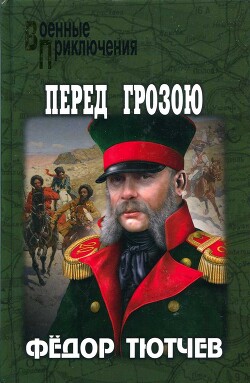же чуждаться начали бы, потому я для них татарская полюбовница, ничего больше… Нет, какое уж тут возвращение; а главное, тебя было жаль. Видела любовь твою и сама люби ла… своей охотой уходить сил не было, совесть не позволяла доброй волей покинуть тебя одного с твоим горем… ну, а теперь не мое хотение, а Божье, не сама ухожу — Бог берет…
Николай-бек слушал слова больной, произносимые слабым, натруженным голосом, и лицо его делалось все сумрачнее и угрюмее.
— На горе взял ты меня, — продолжала Дуня, себе на горе. До меня тебе легче было… не видел ничего, а теперь прозрел, и страшно тебе, и выхода у тебя нет… Впрочем, есть один, я сегодня думала, не знаю, согласишься ли.
— Какой? — буркнул Николай-бек суровым тоном, за которым скрывалось терзавшее его душу горе.
Уходи на Афон и поступай в монахи, или в Иерусалим… там никто не знает, да к тому же турки и не выдают наших беглецов… право, послушайся меня… Бог милостив, может быть, и замолишь грехи свои тяжкие. А… что молчишь? Или не по сердцу совет мой?
— Не гожусь я в монахи, — угрюмо усмехнулся Николай-бек, — не вижу в их житье никакой святости, да и безделье их претит мне… Нет, я уж как-нибудь иначе.
— Я так и знала, что не захочешь, — тяжело вздохнула Дуня, — твое дело, поступай как знаешь…
Надолго воцарилось молчание.
Каждый из них был погружен в свои собственные думы. На этот раз первый заговорил Николай-бек.
— Видишь, Дуняша, я думал прежде, что Шамилево дело выгорит, станет он тут владыкою, и пойдет жизнь другая… разбои и убийства прекратятся, вместо кровавой канлы устроят суды, народ приучится к труду и начнет богатеть, заведется торговля, горские племена соединятся в один народ и заключат тесный договор с Россией, по которому мы обязуемся не только не беспокоить ее окраины, но даже в случае войны ее с Турцией и Персией помогать ей всеми своими силами. Наших мальчиков мы посылали бы в русские корпуса и устроили бы войско по образцу русских… Прошло бы лет 50, и из дикой, разбойничьей страны возникло бы небольшое миролюбивое, но в то же время сильное государство, сильное своей неприступностью и мужеством своего народа… Если бы все это исполнилось, я мог бы быть совершенно спо коен, совесть не стала бы упрекать меня, и я нашел бы мир душе моей… Но беда в том, что все эти мечты пошли прахом… я изверился в Шамиле… и не столь ко в нем самом… он великая умница, но горцы наши ни к чему, они храбры, но близоруки, не понимают своей выгоды, раздроблены и не умеют действовать сообща. Вместо того чтобы стремиться к единению, они разбиваются на отдельные шайки, каждый аул дерется за себя одного, и потому русские их бьют… Если русские поймут наконец, что надо делать, усилят вдвое, втрое свою армию и сразу двинутся не сколькими большими сильными отрядами с большим количеством пушек в Дагестан, они в несколько не дель сломают упорство Шамиля.
— Я женщина, и то давно предсказывала тебе это, а ты не верил. Почему же, если ты теперь сам видишь скорый конец Шамиля, почему же не уходишь, пока не поздно?
— К чему? Или ты думаешь мне так жизнь дорога? Если бы ты осталась жива, я еще подумал бы устроиться как-нибудь по-новому, по-хорошему, а теперь для чего и голову морочить себе… Во всю мою жизнь я только и любил двух людей — отца моего да тебя, Дуняша. Отец умер, ты умираешь, стало быть, и мне пора… Когда окончательно уверюсь, что моя затея прогорает, — брошусь на штыки, и вся недолга…
— Нет, это не так, — слегка качнула головой Дуня, — совсем не так… Смерть без покаяния, без молитвы — нехорошая смерть… Вот хотя бы про себя сказать… сама смерть зову… рада ей… а в то же время горько на сердце, ох, как горько… Горько, что умираю без покаяния, без причастия… Кабы батюшка мог прийти… благословил бы… напутствовал бы, я и не знаю, как бы рада была; тогда мне смерть, словно мать родная, желанная показалась бы… правду говорю… а теперь? Как подумаю, что ожидает меня не могила христианская, молитвой освященная, а яма, в которую зароют меня как падаль, без креста и молитвы, без свечей и ладана, даже без савана, так сердце и рвется на куски… О, думала ли я когда о таком конце!.. Некому и отходную прочесть… Ты ведь, чай, не умеешь? — спросила она с тревогой и затаенной надеждой.
Николай-бек отрицательно покачал головой.
Дуня тяжело вздохнула.
— Ну, пусть, как Богу угодно, он видит… не по своей вине… Его святая воля… Помолюсь сама, как умирать буду… я и то все молюсь… лежу одна-одинешенька и все молитвы читаю… Авось Бог сочтет их за что-нибудь.
При последних словах из ее глаз выкатились несколько крупных, тяжелых слезинок и медленно поползли по щекам.
Николай-бек почувствовал, как в горле его что-то защекотало, и он поспешил отвести от лица Дуни свой затуманившийся взгляд.
"Вот она, казнь за все мои злодеяния, — думал он, — началась… что-то еще ожидает впереди…"
В эту минуту ему вспомнились несколько таких же полонянок, захваченных им и его шайкой в набегах на русские поселки и проданных в Турцию и Персию.
Сколько их было за все пять лет, он наверно не помнит. Штук десять, если не больше. Можете быть, некоторые умерли, и, умирая так же вот, как и Дуня, в чужой басурманской стороне, без покаяния и духовного утешения, они проклинали его холодеющими устами, проклинали в последние свои минуты… Дуня не клянет, она любит, она давно простила, но и то каждое ее слово бьет по его душе, как удар молота, в каждом — ему слышится грозное обвинение за непоправимое зло, какое он нанес ей.
XV
Русские под начальством генерала Фези быстро подходили к Ашильтам. После семнадцатидневного марша, беспримерного в летописях войны по тем трудностям, какие им приходилось преодолевать, русские войска 29 мая заняли Хунзах, столицу Аварии. Жители, над которыми Шамиль, как злой коршун, уже распростер было свои крылья, встретили русских радушно, как своих спасителей. Укрепив Хунзах и оставя в нем гарнизон из 5-ти рот при 4-х орудиях, генерал Фези, дав своим войскам всего только пять дней отдыха, 3 июня двинулся на селение Ашильты с расчетом сначала разгромить этот аул и затем взять и разрушить стоявший за ним и считавшийся неприступным аул Ахульго, резиденцию