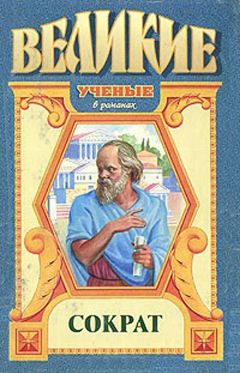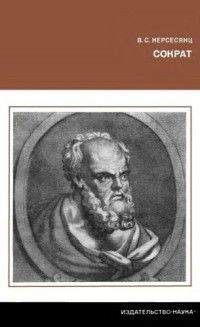Он был наг. И только пурпурный гиматий, казавшийся почти чёрным, как от запёкшейся крови, был обернут вокруг его левой руки, которую он прижимал к груди, чтобы защитить сердце. Он ждал нападения из темноты. Вертелся волчком, прыгал на шорох, на треск сучьев. Глаза его были полны слёз и горели, словно глаза волка. Мускулы, будто змеи, извивались под кожей его рук и ног. Это был танец на горящих углях, танец в пламени, дикая фракийская пляска.
Копьё беззвучно, как луч, и со скоростью луча скользнуло над кустами, вырвавшись из глубины сада, и вонзилось Алкивиаду в живот.
— Вы трусы! — закричал он, падая на колени и роняя меч. — Вы не воины... Убийцы!
Ухватившись за копьё обеими руками, он попытался вырвать его из тела. Но в это время другое с глухим ударом воткнулось в его спину против сердца. Алкивиад вскинул голову, словно хотел увидеть что-то в небе, среди звёзд, тихо застонал и повалился на бок. Новые копья и стрелы, взметая пыль, ударились в землю вокруг него.
Тимандра, подняв руки, выбежала из-за куста, чтобы умереть рядом с возлюбленным, но убийцы Алкивиада не тронули её. Они исчезли, не рискнув выйти на свет.
Весть о гибели Алкивиада достигла Афин не так скоро, как летит стрела или птица, но и не так медленно, как ползёт змея или черепаха. Из Фригии, из страны матери богов Кибелы[109], где был убит Алкивиад, она пришла под парусами и на вёслах, на торговых и военных судах. Те из афинян, которые были врагами Алкивиада, восприняли её как радостную весть, а те, кто любил его, — как печальную.
Сократ любил Алкивиада. Алкивиад был его воспитанником, учеником, а с некоторых пор и надеждой на возвращение Афинам их прежнего величия, попранного олигархами и Спартой, — величия, которое Афины обрели во времена правления Перикла.
Враги говорили об Алкивиаде: распутник, честолюбец, святотатец, пьяница, изменник, гордец. Друзья Алкивиада видели в нём воплощение всех мыслимых достоинств: красоты, мужества, добросердечия, воинского таланта. Но истина была не в том, что говорили о нём враги и друзья. Она заключалась в том, что знал о нём Сократ: Алкивиад — сплав пороков и достоинств, которыми злоупотребляли и его друзья, и враги, пользуясь им то как щитом, то как мечом для достижения своих целей в этом несовершенном мире: почестей, славы, власти, богатства. Ведь и огонь рождает свет и дым, согревает и обжигает, делает металл мягким, как воск, и прочным, как алмаз. Но можно ли за это восхвалять или винить огонь? В руках доброго он свет и тепло, в руках злого — дым и смерть. Огонь не обладает собственной мудростью, ибо не может познать самого себя. И вот беда Алкивиада, в котором всего было в избытке, кроме мудрости: он не владел ни своими высокими, ни своими низменными страстями. В этом Сократ винил и себя, потому что либо не смог, либо не успел выпутать из тенёт страстей ум Алкивиада, которого доверил ему Перикл...
Пришёл Платон[110] и печалился вместе с Сократом, жалел своего старого учителя, вздыхал, слушал его не перебивая, касался рукой его плеча, гладил, чтобы утешить, держал его чашу с вином, которую принесла Ксантиппа. Сократ то и дело порывался взять чашу, но всякий раз, протянув за нею руку, тут же отводил её и подносил к лицу, чтобы утереть слёзы, забывая о вине. Он вспоминал, словно произносил надгробную речь. Вспоминал о том, как Перикл привёл к нему однажды мальчика Алкивиада, ставшего сиротой, очень знатного и уже избалованного мальчика, сына Клиния, погибшего в бою с беотийцами при Коронее[111]. Род Клиния восходил к Эврисаку, сыну Аякса, героя Троянской войны. Перикл был дядей Алкивиада. Когда он привёл Алкивиада к Сократу, Алкивиаду было пятнадцать лет. Теперь ему исполнилось бы сорок шесть.
— Может быть, я был плохим учителем, но я был ему другом, — сказал Сократ. — Он любил меня.
— Да, — отозвался Платон.
— Да — это о чём? — спросил Сократ. — О том, что я был плохим учителем, о том, что я был ему другом, или о том, что он любил меня?
— Ты спас ему жизнь в бою при Потидее.
Сократ махнул рукой. Он не любил говорить об этом, боясь прослыть хвастуном. Тем более что на его месте, думалось ему, так поступил бы каждый. Ведь позже, в Беотии, в битве при Делии, Алкивиад точно так же спас от гибели Сократа...
Он вспоминал счастливые времена: дружеские пиры, беседы, когда его речи вызывали у Алкивиада слёзы восторга; вздохи раскаяния — когда он, усовершенствовавшись в красноречии, повергал в спорах опытных ораторов и демагогов и возбуждал в народе желание доверить ему свою судьбу.
Он вспоминал о триумфальном возвращении Алкивиада в Афины после вынужденного бегства в Лакедемон и о позоре врагов, оклеветавших Алкивиада перед народом.
— Он был великим стратегом, — сказал Сократ. — И когда б не подлость афинян, он выполнил бы волю Перикла: Карфаген и Ливия, Италия и Пелопоннес давно принадлежали бы Афинам.
— Но ты сам, учитель, отговаривал его от этой затеи и предсказывал, что поход на Сицилию не принесёт пользы Афинам.
— Так и случилось, Платон: Афины не добились победы над Сиракузами и потеряли великого полководца — Алкивиада.
— Как ты мог это предвидеть, если в дело вмешался случай?
— Случай — это зерно: упав на подготовленную почву, зерно прорастает, но гибнет без следа, если упадёт на камни. В те дни, когда готовился сицилийский поход, Афины были благодатной почвой для любого случая, который мог бы помешать замыслам Алкивиада. Ты это знаешь, Платон.
Три стратега были избраны народным собранием для ведения Сицилийской войны: Никий, Ламах и Алкивиад. Никий, храбрейший афинский стратег, был уже старым и рассудительным. Он знал, что любая война чревата двумя исходами: либо победой, либо поражением, а мир — накоплением могущества, и потому делал всё, чтобы задержать выступление афинян против Сиракуз. Украшением его старости было то, что он закончил миром тяжёлую войну с Лакедемоном, которую начал Перикл, и тем заслужил любовь афинян, назвавших желанный мир «Никиевым миром». В случае поражения при Сиракузах он мог бы потерять эту любовь и умереть в позоре.
Ламах был моложе Никия, но старше Алкивиада. Полный сил, он хотел прибавить к своим победам ещё одну, быть может последнюю, перед тем как встретиться со старостью.
Алкивиаду же было немногим более тридцати. Он жаждал славы. Для себя и для Афин. И друзьям и врагам он часто напоминал о клятве, которую каждый афинянин давал в храме Агравла: почитать границей Аттики пшеницу, овёс, виноград и маслину. И говорил: «Там чужая земля, где ничего не растёт». Став стратегом, он растерзал Пелопоннес: разбил войско лакедемонян у Мантинеи, помог аргосцам отпасть от Спарты, уговорил жителей Патр отгородиться от спартанцев Длинными Стенами — и тем обезопасил Афины от нападения с юга, с Пелопоннеса. Казалось, он одерживал победы лишь тем, что появлялся на поле сражения. Но слава Алкивиада отбрасывала мрачную тень, в которой зрел заговор: одни видели в нём врага демократии и будущего тирана, другие — соперника, третьи не верили в его военную удачу и опасались за жизнь своих сыновей, которых он увлекал на погибельный путь, четвёртые были просто трусами, бездарными завистниками чужой славы и врагами военного могущества Афин. Все вместе они вредили Алкивиаду как только могли. Они-то и были той почвой, на которой могло произрасти любое дурное зерно: слухи, клевета, интриги, провокации. Он же был неразборчив в своих увлечениях: любил роскошь, вино, женщин, украшения, был дерзок и легкомыслен. Знатность, богатство, молодость, красота, бесстрашие, удачливость — не они ли подогревали в нём безрассудство? Но и противоположное — низкое происхождение, бедность, уродство, трусость — тоже избавляют людей от дурных поступков. Алкивиад не знал меры. Величие рождает зависть, ничтожество — презрение. Зависть — мстительна, презрение — только брезгливо. Тайна калокагатии — внешней и внутренней гармонии человека, братства судьбы и воли — в познании самого себя. Рукою мудреца, начертавшего на стене Дельфийского храма слова: «Познай самого себя», водил сам Зевс. Но Алкивиад, по его собственным словам, бывал мудр лишь тогда, когда беседовал с мудрецами.
Дурные слухи об Алкивиаде поползли сразу же после того, как он был избран народным собранием главным стратегом. Перемывать косточки великих — любимое занятие толпы. Злонамеренные слухи о них опьяняют толпу, как вино. День славы полководца для толпы — день праздника, но день его позора — день счастья. Когда юный Алкивиад произнёс свою первую речь на Агоре и заслужил бурные рукоплескания, Сократ сказал ему: «До сих пор у тебя были только друзья, теперь же у тебя есть и враги».
Сократ нашёл Алкивиада в Пирее и предупредил его:
— Будь осторожен, опасайся заговора.