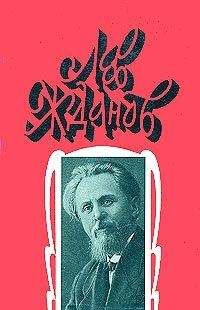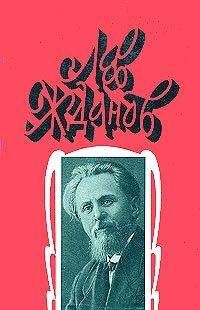Но Федор сам не помнит, как сказал свою первую речь, произнесенную здесь, во храме, среди торжественной обстановки, перед святынями икон, перед лицом всей земли, представленной и этим знатнейшим духовенством, и боярами, и военачальниками, стоящими поодаль толпой, сверкающей сталью и золотом доспехов…
С ласковой улыбкой слушал отец невнятный лепет смущенного сына, привлек его к себе и поцеловал в голову.
— Да живет государь, великий князь Алексей Михайлович на многие лета!.. Княжичу великому и царевичу-государю Федору Алексеевичу многие лета! — возгласили тут же бояре и воеводы, обступая обоих густою толпой, осыпая дарами царевича.
— И вам желаю здравия и многолетия, бояре и синклиты мои честные, — ответил на клики государь.
В пояс поклонился им и духовенству Федор, тоже бормоча свое «здорованье»…
И опять длинным, сверкающим на солнце шествием, цепью парчовых облачений, воинских нарядов и золотых хоругвий, через Благовещенскую паперть потянулись все из храма в Кремлевский дворец.
Тут был пир устроен. Много, даров роздал государь от своего имени и от имени царевича.
С той поры, хотя и не было объявлено всенародно, но все знали, что старший царевич Федор — будущий наследник трона.
Так велось искони, за редкими исключениями…
Так неужели же все это был сон?.. Другой перешел дорогу. Тому, другому, — пока ребенку — и блеск, и власть, и величие царское…
А Федору — долгие годы унизительной, темной жизни… Унижение перед младшим братом. Или — муки заточения, быстрая, насильственная смерть… Смерть, когда жизнь так манит… Когда он и не успел еще пожить… Насладиться этой неведомой, но, наверное, прекрасной заманчивой жизнью…
Порою, в минуты страданий от внутренних недугов, разрушающих хрупкое тело юноши, Федор помышлял уйти от мира, укрыться в какой-нибудь тихой обители и там, дальше от людей, ближе к Богу — замаливать свои и чужие грехи, ждать смерти, которая будет уж тем хороша, что избавит от нестерпимых, продолжительных мучений…
Но проходила черная полоса, царевичу становилось лучше, и благодаря помощи врачей, и при содействии собственных молодых сил. Тогда снова в нем просыпалась жгучая жажда жизни, удовольствий, даже — греха… Всего, всего, только бы не умереть, не изведав этой земной радости…
Нерешительный от природы, ослабленный болезнью, живущий различными порывами, которые сменялись причудливой чередой, Федор оставался всегда чутким и чистым по душе. В нем глохли телесные силы, но ум работал сильно, и чувство справедливости, свойственное людям, лишенным сильных страстей, преобладало почти надо всеми другими инстинктами.
Поэтому и сейчас, слушая речи окружающих, он отдавал должное доводам каждого из говорящих, сам переживал немало, но в то же время, словно со стороны, глядел на себя и на свои чувства и не знал, что предпринять, на что ему решиться?
Преступного, конечно, ничего не мог бы сделать царевич. Но тут снова возник для него вопрос: все ли преступно, что люди заклеймили этим именем? И не является ли порою преступление тем же подвигом, если оно совершено на гибель своей души, но для спасения ближних?..
Вот, именно теперь и надо подумать об этом. Надо решить. Губя свою душу, не спасает ли он весь род матери своей, всех сестер и брата Ивана? Не спасает ли землю от междуусобья? Если будет объявлен царем он, старший сын, тогда скорее всего кончина отца пройдет без особой смуты, хотя Матвеев и его сторонники любимы народом и имеют много приверженцев.
Все понимал Федор. Но ясное представление о многом и не дает ему решимости остановиться на чем-нибудь одном, проявить свою волю и сказать: «Я хочу именно этого, хотя бы оно было и не совсем правильно»…
И долго сидит в молчаливом раздумье царевич.
А кругом в тревоге сидят молодые и старые, бородатые бояре, сидят сестра и лукавая старуха Хитрово, «составщица дворовая», испытанная заговорщица, стоят стрельцы — и все ждут: как решит, что скажет этот бледный, болезненный, робкий юноша, почти мальчик?..
Без него, без этого знамени им нельзя выступить, как бы ни велика была земская и стрельцовская сила, стоящая за их спиной.
Только именем Федора и во имя Федора может быть совершен желанный переворот, который принесет царевичу внешний блеск власти, а им — подлинную силу ее…
Все видят тяжелое состояние души царевича. Но каждый толкует его по-своему и боится первый слово сказать, чтобы этим неудачным, быть может, словом не испортить всего дела, кинув подозрение или чрезмерный страх в робкую душу слабого юноши.
Чувствуя на себе все эти лихорадочно, трепетно горящие глаза, полные немого ожидания и вопроса, Федор окончательно смутился. Краска кинулась ему в лицо. Из бледного оно стало багровым, а на глазах показались даже две слезинки.
Закусив губу, он вдруг обратился к Ивану Языкову, молодому, красивому боярину незнатного рода, который успел выдвинуться в качестве судьи Дворцового приказа и особенно нравился Федору своей честной прямотой, соединенной с такой мягкостью, что самые резкие укоризны не обижали людей, когда их произносил Языков.
— Ну, ты, Ваня… Што ты бы сказал?.. Ишь, молчишь все. Видишь, дело какое… Вот и скажи, как тут быть?.. По-твоему как?..
— А, что же я скажу?.. По-моему-то выйдет одно, а по-твоему — иное. Вон, люди похитрей меня толковали. И дело им видно больше, ничем мне. А ты же ни на то, ни на другое не пристал, царевич. Ишь, душа больно робеет у тебя, когда надо повершить што-либонь… Какие же советы мои и к чему?.. А, вот, одно скажу: зовет родитель-государь. Идти надо. Воля его отцовская и царская. Это — первое. В другое: с опаской идти надо. Правда, сам ты зла не мыслишь… А все быть может… Береженого, сказывают, и Бог бережет. А в третье, — вон, поди, и в голову тебе не западет николи какое супротивство родителю оказать, али бо ему поруху какую, здравию ево, али части учинить… Стало — и греха тут нету, коли сын к родителю заявился да обое они толковать о чем станут. А придете вы обое на то, на што буде воля Божия. Вот дума какая моя. И тем оно добро, што тебе, государь, в сей час и повершать ничево не надобно. Што буде, то буде, волею Господней, не нашим людским хотением…
Слушая искреннюю речь Языкова, все просветлели. У Федора тоже прояснилось лицо, и он закивал утвердительно головой.
— Так, так, Иванушко… По всяк час ты прав… Уж и умен же ты…
— Дураком николи не звали, а и больно в умных не слыву. Так, што на уме, то и на языке у меня, как у пьяного, — шуткой ответил Языков.
Гул одобрений был ему наградой со стороны всех сидящих в покое.
— Вестимо, царевич, как не пойти, коли родитель позвал, — авторитетно заговорил молчавший до сих пор дядька Федора, осторожный и болезненно честолюбивый боярин Федор Куракин.
— Уж тут дело чистое, — громко, решительно заговорил опять Петр Толстой, видя, что все улаживается. — Проводим к государю царевича. Их царская воля. На чем их милости решат, на том и мы пристанем… Наше дело холопское, не так ли, бояре, и вы, люди ратные?..
Говорит, а сам переглядывается со всеми. И без слов эти немые взгляды досказали все, чего не высказал Толстой.
— Вестимо: их царская воля. Мы — рабы…
— Как они, государи?.. А надоть же и потолковать родителю с сыном со старшим!
— Господня воля во всех делах людских, а в царственном коловороте наипаче, — подтвердил и протопоп Василий.
— Иди со Господом, дитятко мое… Да хранит тебя Спас Милостивый, — осеняя питомца крестом, сказала боярыня Хитрово.
Софья, вставшая вместе с другими, отдала поясной поклон брату:
— В добрый час, братец, желанный мой… Уж и так бы я пошла с вами, да боюся забранит батюшка, што не в свои дела мешаюсь… Небось, как постригать меня велит мачеха, то мое дело буде… А тута…
— Ну, буде, Софьюшка… Не печаль царевича, — вмешалась Хитрово. — Видишь? идет он к царю… Нешто же допустит брат сестер постригать без воли ихней?.. Все обладится, верь ты мне…
И обе женщины остались одни в покое, откуда с говором вышли за царевичем все, кто был на совещанье.
Не успели они скрыться за дверьми, как Софья с тревогой обратилась к старухе боярыне:
— Ох, мать моя, боязно, как бы тамо чево не вышло, што и не ждали, и не чаяли? Ишь, Дуровой какой братец у меня. Хто ему што скажет, он на то и пристает. Ровно вертун на крыше. А тамо…
— Тамо будет, как нам надо!.. Вон, Петра Толстой парень не промах… Языков-то спроста уговорил царевича к государю идти… А Толстой и смекнул: туды бы привели без помехи царевича. Тамо все буде, как по писаному… Верь ты мне, старухе…
— Дай, Боже!.. Уж только бы нам мачеху мою ей всей роденькой ихней сократить. Господи, сорочку последнюю отдала бы на нищих да на масло… Пойду Господа помолю, Матерь Ево Пречистую: дали бы нам на врагов одоление… Мир тобе, матка, Анна Петровна, родимая…