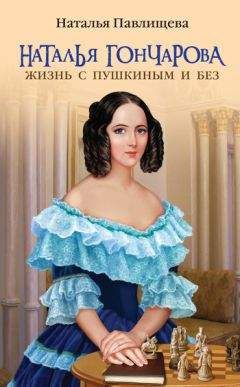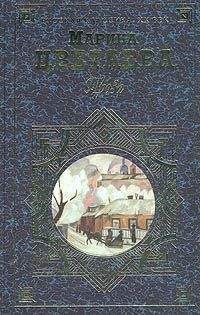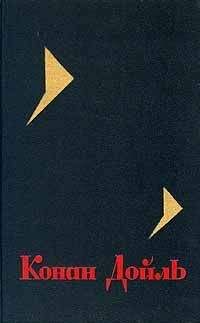чувствовал себя раздавленным и сломленным после стольких лет, проведенных в ссылке и на каторге, может так статься, даже эта участь не из худших. Все же горевать в достатке легче, нежели горевать в бедности», – заключил про себя он и отвел свой взор, будто стыдясь своего «благополучия».
– Так разве ж в гарнизоне говорят? В гарнизоне пьют! – весело заметил Чемезов.
– Ну что ж они, когда пьют, неужто, совсем не говорят? – засмеялся Мейер.
– Об чем говорят, об том и не расскажешь. Может только про то, что чины снова менять намерены, пожалуй, единственно, что дельное говорят.
– И как же менять будут? И что ж? Как поменяют, разве толк будет?
– Толку, ясное дело, не будет. В этом сами чины убеждены, что не маловажно. Но велено менять, значит, менять будут, а зачем, почему, это уж и не важно. Ибо в самой замене смысл тот кроется. А так все своим чередом идет, как и прежде, и не гляди, что менять то надобно многое, менять будет лишь чины, что и не важно вовсе, как всем и каждому известно. Так у нас все перемены и проходят, Михаил Иоганович, уж вам все это доподлинно известно, – заметил Чемезов.
– Мда-а-а-а-а, – только и произнес Мейер, толи оттого что нечего было сказать, толи оттого, что и говорить ничего не хотелось, ибо, что бы ни было сказано сие сказанное на ход вещей и событий повлиять не могло.
В дверь неожиданно постучали.
– Войдите! – резко крикнул Мейер.
На пороге стоял Кузьма, крестьянин, живший неподалеку. Он не по указке, а по своему желанию подрядился к Мейеру в услужение, не брезгуя, тем, что тот был ссыльным. Рассуждения его на эту тему, при том были просты и объяснимы: ссыльный барон, все же барон, а не абы какой уголовник, так что разумея это, Кузьма относился к Мейеру, со всем тем пиететом, который и положено было оказывать барону, будто тот и не находился вовсе, там где находился.
– Ваше Сиятельство, – начал тот с порога, – Там барышня ищет, не то Вас, не то какого арестанта, ей Богу не пойму, бочки привезли, ох, ну что за бочки, просмолены, ни сучка не задоринки, ей Богу, англичане бы позавидовали, – продолжил Кузьма, свою восторженную речь.
– Какая барышня? Какие бочки? – раздраженно спросил Мейер, садясь на кровать и сердито глядя на Кузьму, который так бесцеремонно нарушил его покой и ход размеренной беседы.
Чемезов же, наблюдая эту сцену, лишь посмеивался в усы, скрывая улыбку за завесой дыма сигареты.
– Бочки привезли, и уж выгрузить успели, да не туда привезли, не в тот переулок, обшиблись, – невозмутимо ответил Кузьма.
– А барышня причем?
– Так не причем, Ваше сиятельство, сама по себе приехала, с извозчиком, да с сопровождающим.
– И к кому приехала? – спросил Мейер, окончательно сбитый с толку.
– К арестанту говорит. Ох и красавица эта барышня, вот только хворая, да и бледна, что снег, и встревожена, и трость от груди не отнимает. Жалко барышню, ведь такая красавица, как бывает Боженька не справедлив, или наизворот правильный, ведь нельзя же, чтобы одному и все сразу, надо же, чтобы одному – одному, другому – другое, а так чтобы одному все… Не верно это…, – пустился в рассуждения Кузьма, уже и не замечая, что его никто не слушает.
Молниеносно сорвавшись с кровати Мейер, в одной рубахе и с босыми ногами одним размашистым шагом преодолел расстояние до двери, и, отодвинув Кузьму, словно тот был тряпичной куклой, а не весил добрый центнер, тотчас выскочил, на крыльцо, да так, что со стуком задел головой о дверной проем, но того и не заметил даже.
Там, на облучке сидел мужик, держа поводья, и казалось уже намереваясь повернуть бричку обратно, в самой же повозке, было двое, один, не знакомый ему мужчина, не старый, и не молодой, а средних лет, пожалуй, даже привлекательный, если бы не огромная голова, на узких и почти дамских плечах, а за ним… а за ним она…
Она, чей образ, казалось, был стерт из памяти, она, чьи письма он читал и перечитывал, при лунном свете иль при свете золотой лучины, она, чей свет, не дал ему впасть в уныние, когда уже ничто не держало его в этом темном и враждебном мире.
Нет, он не забыл ее, как ему казалось, сознание прятало в свои глубины ее образ, оберегая от снегов и ветра, от солнечного зноя и проливных дождей, укрывало одеялом забвения то, что имеет подлинную ценность на этой бренной земле, где все есть прах и тлен, и лишь любовь бессмертна и неугасима.
Так он и стоял окаменев, не в силах и двинуться с места, ни он сам, ни его босые ноги не чувствовали холода, тело горело, будто в огне, он и рад был тому весеннему ледяному ветру, что остужал и голову и сердце.
Наконец она заметила его, и что-то сказав сопровождающему, который ловко помог ей спуститься, направилась к Мейеру. Тот взгляд, что был адресован ему, был мимолетен, и длился не больше секунду, он и сам не был уверен, смотрела ли она на него, или поверх него, однако тот факт, что после этого она двинулась в его сторону, не оставлял в том сомнений. Она его узнала.
Страх, страх перед встречей с ней сковал его тело, никогда он еще не чувствовал себя так дурно. Все его унизительное положение, и мятая простая тканная рубаха, и брюки, сидевшие как мешковина, и босые ноги и изба, в которой он жил, и даже борода как у старообрядца, все что до этого момента едва ли волновало его, теперь же стало почти невыносимым.
Он смотрел на нее с жаром, съедаемый сотней противоречивых чувств, впитывая взглядом каждый кусочек ее тела, каждый изгиб и каждый цвет, преломлявшийся и искрящийся в рассыпающихся осколках весеннего солнца.
Она повзрослела, он с трудом в знакомых чертах угадывал, ту девушку, почти ребенка, которая врачевала его душу, в том самом яблоневом саду, той далекой и жаркой весной.
Мейер вдруг почувствовал себя таким старым, и дряхлым, как будто ему было не чуть за сорок, а целых сто, а вековая пыль прошедших лет, лежала на его плечах, заставляя его сутулиться и пригибаться к земле.
Они поравнялись, он протянул ей руку, она оперлась о нее, и вместе они взошли на ступеньки.
– Здравствуйте, Лизавета Николаевна, – хрипло поздоровался Михаил Иоганович, так что и сам не узнал свой голос, до того он казался скрипучим и почти чужим.
– Здравствуйте Михаил Иоганович, – просто ответила Лиза, и посмотрела на него своими ясными и такими тревожными голубыми глазами, совсем как раньше, как будто ничего не изменилось меж ними, и не было всех