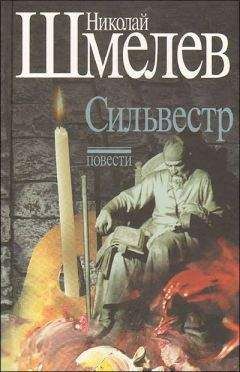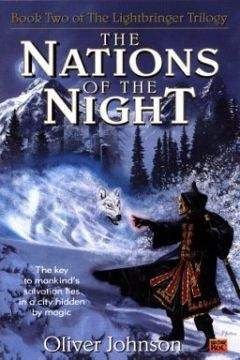Напросился Сильвестр через доброхотов своих, чтобы принять его государыне царице наедине по важному государственному делу. А когда встретились они с ней в её светлице, в царицыном тереме, был между ними такой разговор:
— К тебе, государыня, как к последнему прибежищу я, богомолец твой, прибегаю! Но не ради заботы житейской, а ради державы нашей многострадальной… — поклонился ей земным поклоном поп. Но не подошла в ответ государыня Анастасия Романовна к его руке, не испросила, как бывало, благословения. А как сидела в своих креслицах, так и осталась сидеть.
— Я слушаю тебя, отче… Какая у тебя ко мне нужда?
— Матушка государыня! Одна только ты ещё и можешь остановить беду, что вновь нависла над Русской землёй. Умоли царя отложить новый поход ливонский! Отведи его от кровопролития напрасного, заступись за безвинный народ свой, что денно и нощно молит Бога о здравии и благоденствии твоём… Не нужна нам эта война, надежда ты наша последняя! Погибнем мы в ней. Пока не поздно, надо мир с Ливонией и Литвою заключить…
— Ты считаешь, отче, не нужна?
— Не считаю, государыня, — знаю, что не нужна! Не будет нам победы в ней. Свыше мне знание то дано: гибель ждёт нас в этой войне…
— Ну раз ты считаешь, что не нужна, значит, так тому и быть… Значит, быть этой войне!
— Государыня, опомнись! Что ты говоришь?
— Замолчи, лукавый поп! Всё, что ты делаешь, всё, что говоришь, — всё во зло! Всюду козни твои. Всё надо делать тебе наперекор…
— Матушка государыня, да за что же гнев твой такой на меня? Чем я, раб твой, тебе так не угодил?
— Чем?! И ты ещё смеешь спрашивать, поп, чем? А кто сына моего Димитрия, кто первенца моего колдовством да чернокнижием своим сгубил? Все я очи выплакала по нём! И сейчас ещё личико его синее, его волосики мокрые, прилипшие ко лбу, перед глазами стоят… А кто царя, как дитя малое, спеленал по рукам и ногам, так что он и шагу не смеет ступить без разрешения твоего? Думаешь, я не знаю, что и ко мне он ходит только тогда, когда ты велишь? А кто девок всех этих развратных подсовывает ему, да на пьянство подбивает, да мальчишками смазливыми его окружил? А на меня, несчастную, порчу кто наслал, кто меня сколдовал? Посмотри на меня! Полюбуйся на дело рук своих, злодей! Разве такая я была? Эта прядь седая, эта морщины по глазам, эти щёки впалые, без кровиночки — откуда? Всё ты, Ирод! И ты ещё наглость имеешь приходить ко мне?…
Печально и зябко было на площадях и в переулках кремлёвских, когда поп вышел от царицы, понурив седую голову и осеняя себя мелким крестом: «Прости, Господи, люди твоя, ибо не ведают они, что творят…»
Смеркалось. Моросил унылый октябрьский дождь, и в пустых пространствах между древними кремлёвскими соборами не было видно ни души. Только над Иваном Великим, над самым куполом его, тускло отсвечивавшим в сумерках, вилась, и распадалась, и вновь свивалась в огромное мятущееся облако стая воронья; со всего, видно, города слетевшегося сюда. И лишь хриплое, громкое воронье карканье и нарушало то угрюмое безмолвие, что царило в этот час в Кремле.
Скучно, плохо на Москве в эту глухую осеннюю пору! Душа томится, и жить не хочется. А хочется спрятаться куда-нибудь, укрыться с головой и, забыв обо всём на свете, заснуть. Может быть, даже и вечным сном.
Трудной, тревожной выдалась для Москвы зима с 1559-го на 1560 год.
И началась она несчастливо — с разгрома под Дерптом беспечного воеводы московского Захария Плещеева магистром ливонским Кетлером, внезапно нарушившим перемирный срок. И кончилась она бедой — яростными опустошительными пожарами, что не утихали потом на Москве до самого лета, вновь уничтожив от Чертолья и до Арбата и вплоть до Дмитровки всё, что сумели трудом и усердием своим отстроить жители московские после всем ещё памятных бедствий 1547 года.
А пуще всех воинских неудач и иных несчастий страшила и печалила народ православный ставшая уже известной на Москве долгая и тяжкая болезнь царицы. Никто не верил, что эта новая напасть явилась к ней, юной, сама собой. Все толковали о порче, о сглазе, о происках неведомых тёмных сил и видели в том очевидное знамение грядущих новых бед.
И хотя славно отомстило потом воинство московское вероломному магистру, в другой раз разграбив и опустошив всю землю Ливонскую и не оставив теперь уже в целости ни одного малого местечка, в каких бы лесах и болотах ни пряталось оно, тревога и беспокойство на Москве росли день ото дня. Говорили, что литовские полки уже готовы всею своею несметною силою вторгнуться в пределы московские, что император прислал магистру ливонскому богатую казну для найма воинских людей по всей Европе, что прусский герцог шлёт ему на помощь своих рейтаров и что датский и шведский короли тоже уже вот-вот заключат с Ливонским орденом союз. А ещё толковали люди московские, что, видно, не обошлось и здесь без измены, без тайной помощи ливонцам в самой Москве от тех, кто недалеко от государя стоит. Кабы не они, изменники, кабы не перемирие то злосчастное, государь всея Руси не только что Ливонией, а «мало бы не всею вселенною уже обладал»: сколько могла хотя бы та же Ливония продержаться против него один на один?
А раз родился, раз пополз по Москве такой слух про измену да про козни притаившихся где-то государевых недругов — слух этот уже никому было не остановить. А коли так, то тайные службы царские на что? Нет, не дремлют и они! И не дремлют те, кто уже почуял, что грядут иные времена, а с ними и иные люди…
И вот уже тягают по ночам в Пытошную избу одного за другим именитых купцов московских, торговавшие до начала этой злосчастной войны с Ганзою, и с Аглицкой землёй, и с ливонскими городами: дескать, с какой такой стати предлагали они тогда царю долги ливонские откупить? И какая была им в том корысть? И кто им на такое ведомое воровство и измену подбивал? И каким таким злодейским обычаем сделалось, что магистр и всё рыцарство ливонское прознали про беспечность нашу и нерадение, — кто им про то дал знать?
Кричали, взывали к своим палачам вздёрнутые на дыбу именитые гости московские, что-де выкуп тот дело обычное во всех землях и что затевали они то дело ради будущих выгод торговых да прибытку государевой казне. Но на крики и объяснения их не обращал внимания никто. Вновь и вновь впивалась со свистом ремённая плеть палача в их окровавленные спины, вновь и вновь хрустели в раскалённых добела щипцах кости рук их и ног, и сменялись палачи, и сменялись день на ночь и ночь на день. А тусклый, нудный голос подслеповатого подьячего из Разбойного приказа, кому поручен был тайный тот розыск, твердил одно:
— Винись, борода. Винись в злодеяниях своих… Кто тебя на то дело подбил? Кто научил? Может, постельничий царский Алексей Адашев? Или благовещенский протопоп? Или из больших бояр кто?
Страшен грех лжесвидетельства православному человеку, истинно верующему во Святую Троицу и в Господа нашего Исуса Христа! И страшно, и горько ему навечно погубить бессмертную душу свою, послав другого, не повинного ни в чём человека на смерть ради одной лишь телесной слабости своей. Но есть пределы всякому терпению человеческому, и лишь избранным Господом дано претерпеть все мучения и страсти земные, не дрогнув, до конца. Когда теряет человек сознание от запаха собственного горелого мяса, и дьявольская боль терзает его, и тысячи железных когтей рвут его тело на куски, и нет ему ни пощады от мучителей его, ни избавления в скорой смерти — все заповеди Господни умолкают тогда, и лишь истерзанное тело человеческое вопиет, готовое всё отдать и от всего отступиться за одно малое мгновение передышки от этих адских мук да за глоток воды.
И вот уже первый, самый слабый из всех истязуемых просит палача отвязать его, обещая признаться во всём. А за ним и другой, и третий…
— Ладно семя приказное! Твоя взяла. Пиши: «А подбивали меня, имярек, на то воровство и измену протопоп благовещенский Сильвестр да постельничий царский окольничий Адашев. А заплатили мне за ту измену агенты ливонские золотом, да привилегию тайную мне и детям моим дали впредь беспошлинно в земле их торговать. А ещё передал я с рук на руки тому попу и окольничему Адашеву два кожаных мешка с деньгами, а сколько было денег в тех мешках, мне то неведомо, поелику на каждом из них висела большая магистрова печать. А только помню я, имярек, что мешки те были зело тяжелы. Да ещё ведомо мне, что и другие гости московские и попу, и Адашеву деньги от себя давали, чтобы ливонскому делу не быть. А когда всё ж не допустил Господь, не удалась измена их тайная, — ещё давали им деньги, чтобы войну ту поскорее прекратить, а миру чтоб быть не на государевой воле, а на воле магистра и всех чинов ливонских, а денег больших с Ливонии в уплату за издержки государевы не брать и землю ту Ливонскую не разорять».
И трёх дней не прошло, как начался тот розыск тайный, а уже у начальника государевых тайных дел боярина Василия Михайловича Захарьина лежала на столе большая кипа густо исписанных листов с добытыми в Пытошной избе показаниями московских купцов. И говорилось в тех листах, что многие преступные посулы, многие богатые дары и подношения были взяты и благовещенским протопопом, и постельничим царским Алексеем Адашевым ради их заступничества за ливонский интерес. И не только про измену и лихоимство двух первых людей в государстве Российском поведали в муках своих московские купцы: оказалось, по показаниям их, что и вся Избранная Рада царя давно уже была на содержании ливонском — и Курлятев-князь, и князь Горбатый-Шуйский, и князь Андрей Курбский, и боярин Михаила Морозов, и иные ближние к царю люди. Одного лишь Макария- митрополита и пощадил тот розыск, да и то, видно, потому, что уж больно дряхл стал. старец сей благочестивый и давно уж старался он не вникать ни в большие, ни в малые государственные дела, сторонясь в преддверии жизни вечной всяческой мирской суеты.