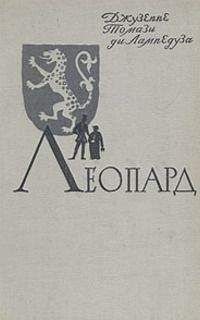Из соседней комнаты, выходившей на тот же балкон, до него донесся голос Кончетты: «Без этого нельзя. Его необходимо было позвать. Я никогда бы себе не простила, если бы его не позвали». Он сразу понял: речь идет о священнике. В первую секунду ему захотелось закричать, отказаться, наврать, что он прекрасно себя чувствует, что не нужен ему никакой священник, но он тут же понял, насколько смехотворен его протест: он — князь Салина, а князю Салине не положено умирать без священника. Кончетта права. И потом почему он должен отказываться от того, чего желают тысячи других умирающих? Он напряг слух, ожидая услышать звон колокольчика. Тот бал у Понтелеоне, вальс с Анджеликой, она пахла как цветок… Вскоре он услышал его — колокольчик последнего причастия: церковь Милосердия была почти напротив. Серебристый веселый звон поднимался по лестнице, приближался по коридору и резко ударил в уши, когда открыли дверь. Вслед за швейцарцем-управляющим, недовольным тем, что у него в гостинице умирающий, в номер вошел приходский священник отец Бальзано с дароносицей в кожаном футляре. Танкреди и Фабрициетто подняли князя вместе с креслом и внесли в комнату, где уже стояли на коленях остальные. Голос не послушался его, и он жестом показал, чтобы все вышли. Он хотел исповедаться. Уж если делать, то делать как положено. Все вышли, но когда настало время говорить, он понял, что говорить-то особенно нечего: припомнилось несколько безусловных грехов, но они казались ему сейчас настолько ничтожными, что, право, не стоило докучать ими солидному человеку, да еще в такую жару. Нет, он не считал себя безгрешным, напротив, он был виноват, но не в том или ином поступке, а во всей своей жизни; вся его жизнь была одним сплошным грехом, настоящим, большим грехом, но у него уже не осталось времени, чтобы об этом говорить. Священник, заметив беспокойство в глазах князя, принял его за раскаяние, что в определенном смысле соответствовало истине, и отпустил грехи. Голова князя так низко свесилась на грудь, что священнику пришлось опуститься на колени, чтобы всунуть ему в рот облатку. Потом он скороговоркой пробормотал положенные слова последнего напутствия и удалился.
Кресло уже не стали выносить на балкон. Фабрициетто и Танкреди сели рядом с князем, каждый взял его за руку. Мальчик смотрел на него не отрываясь, с вполне понятным любопытством, поскольку впервые видел, как умирает человек, впрочем, не человек, а старый дед, что не одно и то же. Танкреди крепко сжимал его руку и говорил, говорил оживленно, без остановки, стараясь вовлечь в разговор и его, делился планами на будущее, комментировал политические события, рассказывал забавные случаи, выдавал чужие секреты. Он был депутатом, ему уже обещали место посла в Лиссабоне. Манера племянника говорить чуть в нос, его юмор украшали пенистой каймой грохочущие потоки утекающей жизни. Князь был благодарен Танкреди за болтовню и, собрав все силы, попытался сжать его руку, правда, почти безрезультатно. Потом он перестал его слушать и начал подводить баланс своей жизни: ему хотелось найти в кучке пепла, оставшегося от прошлого, золотые крупицы счастья. Сколько их набирается? Две недели перед свадьбой, шесть недель после свадьбы, полчаса после рождения Паоло, когда он испытал чувство гордости, что смог добавить веточку к родовому дереву князей Салина (теперь он знал, его надежда не оправдалась, но тогда он был горд по-настоящему). Несколько бесед с Джованни до того, как он исчез, вернее, если быть честным, монологов, которые он произносил в надежде найти в душе сына отклик своей собственной душе; долгие часы в обсерватории, проведенные в отвлеченных вычислениях и в погоне за недостижимым. Он вдруг засомневался, можно ли внести эти часы в свой жизненный актив: может быть, они были щедрым авансом обещанного после смерти блаженства? Впрочем, не важно, главное — они были.
Внизу, на набережной перед гостиницей, остановился шарманщик, рассчитывающий тронуть сердца приезжих, которых в это время года здесь не бывает, и завел: «Ты, на небо отлетая»[84]. Дон Фабрицио подумал о том, сколько горечи может добавить эта механическая музыка всем, кто умирает сейчас в Италии. Танкреди, чуткий, как всегда, выбежал на балкон, бросил вниз монету и знаком велел шарманщику убираться прочь. Снаружи стало тихо, грохот внутри продолжал нарастать.
Танкреди. Многое из того, что связано с ним, можно вписать в актив: его чуткость, особенно ценная тем, что была окрашена иронией, его умение ловко преодолевать жизненные трудности, доставлявшее князю почти эстетическое наслаждение, нежная привязанность племянника к нему, своему «дядище», замаскированная, естественно, насмешкой.
Еще собаки: Фуфи, толстый мопс его детства; верный друг, неугомонный пудель Том; резвый, с кротким взглядом милый упрямец Бендико; Поп, пойнтер с мягкими лапами, который ищет его сейчас под кустами или в доме под креслами и больше никогда не найдет; несколько лошадей, но к ним он так сильно не привязывался. Еще первые часы после приезда в Доннафугату — ощущение незыблемости традиций, вечность, воплощенная в воде и камне, остановившееся время; потом радостное предвкушение охоты, щемящая жалость к убитым кроликам и куропаткам, добродушный обмен шутками с Тумео, томительные минуты в монастыре, где пахло вареньями и печеньем. Было ли еще что-то? Да, было, только это уже совсем мелкие крупицы, неразличимые в сером пепле: удовольствие, когда удавалось высмеять дурака; чувство торжества, охватившее его, когда он открыл в красоте и характере Кончетты родовые черты Салина; несколько коротких мгновений, когда он испытывал любовное наслаждение; радость, когда он неожиданно получил письмо от Араго[85], в котором тот поздравлял его с безошибочными вычислениями сложной орбиты кометы Хаксли. А что в этом зазорного? Овации, когда ему вручали медаль в Сорбонне; нежный на ощупь шелк его галстуков, запах сырой кожи, манящие, смеющиеся незнакомки, как раз вчера ему встретилась такая на вокзале в Катании: в коричневом дорожном платье, в замшевых перчатках; она, прежде чем смешаться с толпой, искала, как ему показалось, взглядом его измученное лицо за грязными стеклами вагона. На перроне сутолока, крики: «Толстые бутерброды!», «Вестник острова!», потом пыхтение задыхающегося поезда, фальшивые улыбки родных, сорвавшийся в бездну водопад…
Пока не сгустилась тень, князь торопился подсчитать, сколько же времени он прожил по-настоящему: цифры путались в его слабеющем мозгу: три месяца и двадцать дней, итого шесть месяцев, шестью восемь… восемьдесят четыре… сорок восемь тысяч… кубический корень из восьмисот сорока тысяч… Потом мысли прояснились. «Мне семьдесят три года, из них я жил, жил по-настоящему от силы два-три. Тут и считать нечего: семьдесят лет в остатке».
Он заметил, что его руки теперь свободны. Танкреди быстро поднялся и вышел. Рвущийся из него поток превратился в бушующий океан, неистовые пенистые валы обрушивались один за другим…
Должно быть, он снова впал в беспамятство, а когда пришел в себя, заметил, что уже лежит на постели и кто-то щупает ему пульс; отраженное в море солнце слепило глаза, в тишине слышались какие-то свистящие звуки. Это было его собственное дыхание, но он этого не знал. У постели столпились люди, они смотрели на него с испугом. Постепенно он узнал их: Танкреди, Кончетта, Анджелика, Франческо Паоло, Каролина, Фабрициетто. Пульс ему щупал доктор Катальотти. Он попытался улыбнуться врачу, но его улыбки никто не заметил. Все, кроме Кончетты, плакали, даже Танкреди, который все время повторял: «Дядя, дядище, дорогой!»
В этой группе он увидел вдруг молодую даму — стройную, в коричневом дорожном платье с высоким турнюром, в соломенной шляпке, украшенной вуалью с мушками, не скрывавшей лукавой прелести ее лица. Извиняясь, притрагиваясь рукой в замшевой перчатке к локтю то одного, то другого из плачущих, она приближалась к нему. Он узнал ее, это была она, вечно желанная, она пришла за ним. Странно, такая молодая и подчинилась его зову. До отхода поезда оставалось совсем немного. Когда она склонила свое лицо к его лицу, то подняла вуаль. Целомудренная, но готовая отдаться, она показалась ему еще прекрасней, чем прежде, когда он пытался представить ее себе, вглядываясь в звездные просторы.
Рокот моря стих навсегда.
Май 1910
Те, кто навещал старых барышень Салина, почти всегда замечал на стуле в прихожей по крайней мере одну шляпу священнослужителя. Барышень было три, они неустанно вели тайную борьбу за домашнюю гегемонию и, будучи женщинами с характером, каждая со своим, имели трех разных исповедников. В 1910 году еще было принято исповедоваться у себя дома, а частые угрызения совести принуждали сестер к частым покаяниям. И если добавить к вышеназванной тройке духовников одного капеллана, являвшегося каждое утро служить мессу в домашней капелле, одного иезуита, осуществлявшего общее духовное руководство в доме, монахов и священников, приходивших выпрашивать пожертвования на тот или иной приход либо на богоугодные дела, то станет вполне понятно, что из-за этого непрестанного хождения лиц духовного звания прихожая виллы Салина нередко напоминала одну из тех лавок на римской площади Минервы, где в витринах выставлены всевозможные головные уборы служителей церкви — от пламенно-красных кардинальских до цвета копоти, которые носят сельские священники.