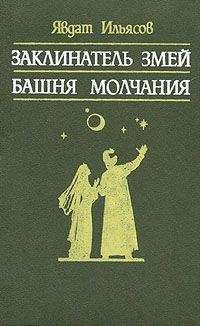Омар, удивленный столь грубой ее прямотой, тихо сказал, чтоб не обидеть:
– Я бы… рад. Но ремесло у вас… слишком громкое. – Он кивнул на молоток Эль-Мирры. – Я стука и грохота не выношу.
– Какое есть! – сказала она злобно. – Себя кормлю и эту дармоедку. Перестань, дура, стучать!
Эль-Мирра отложила молоток, безмолвно понурилась.
– Но она же вам помогает?
– Все равно обуза! Бремя тяжкое.
Омар, увидев, с кем имеет дело, сказал напрямую:
– Я бы мог освободить вас от этого бремени.
– Да? Так бы сразу и сказал! – Грубые губы старухи расплылись в гнусной улыбке. – Сколько дашь?
Будто халат продает…
– Сколько просишь? – невольно огрубел и Омар.
Он поймал на себе больной взгляд Эль-Мирры, душа у него заплакала от жалости к ней. Тут же взять бы бедняжку на руки, к сердцу прижать…
– Пятьсот золотых, – твердо сказала соседка, – и купишь мне лошадь и повозку. И наймешь молодого слугу.
– Пятьсот не могу, – ответил Омар, прикинул в уме, сколько денег у него осталось. – Дам двести динаров. Лошадь купить, слугу нанять – согласен. Хотя зачем они тебе? Ну, молодого слугу, положим, можно к чему-нибудь приспособить, – сказал он ехидно. – А лошадь?
– Всю жизнь мечтала лошадь иметь. Двести? Сойдет. Ход пробьешь между нашими дворами.
– Нет. Это – нет.
– Ну, ладно. По рукам, что ли?
Ей и не снилось такое счастье.
– По рукам!
Хлопнули по рукам.
– А халат, – спохватилась старуха, – как, будем шить?
– Не надо, – махнул рукой Омар. – Возьми отрез себе. Дарю.
– Вот спасибо! – Старуха живо спрятала отрез в сундук.
Омара неприятно поразило, каким волчьим взглядом, исподлобья, проводила Эль-Мирра драгоценную ткань и затем уставилась на тетку…
Без всяких свах обошлось! Эль-Мирра проводила его до калитки. И, спеша, чтоб не заметила тетка, радостно кинулась на шею.
– Ночью приду, – шепнула она возбужденно. – Купишь мне такой же отрез?
Негодный поэт! Соблазнитель проклятый. Ишь, как быстро прибрал к рукам юную иволгу. Что ж, мужчина он видный, ничего не скажешь. Легкий, статный. Веселый. И, говорят, очень ласковый, добрый. И не без денег. Чего еще нужно глупой девчонке?
Нет уж, ты больше ее не увидишь! Жена хлебопека умылась, что случалось с нею редко, набелились и нарумянилась. Глаза сурьмой подвела, надела свое лучшее платье. Завернула в чистый платок стопку горячих лепешек и, пыхтя, явилась к соседке.
Ну, тут началось!.. Объятия. Доброе утро. И как житье и как здоровье. И как идут дела. И как племянница – растет, хорошеет? Те многословные расспросы, пожелания и приветствия, которыми люди на Востоке, следуя правилам этикета, осыпают друг друга при встрече с самыми любезным и искренним видом, хотя, собственно, зачастую им дела нет друг до друга…
«С чего бы это? – подумала злобно швея, увидев целую стопку свежих лепешек. – Обычно одну в долг не выпросишь, и вдруг такое изобилие. Этой толстой пройдохе что-то нужно от нас».
В ее бедном уме зашевелилась догадка.
«Нищета, – одним взглядом оценила пекарша обстановку: ветхая кошма на полу, щербатая посуда, одеяла драные в нишах. – Ну и родню я себе подыскала! Неряха, – покосилась жена пекаря на домашнее грязное платье швеи, на лоскуты на полу. – Дикарка. Гостью встретить не может как следует. Погодите. Заполучу племянницу – тетку и на порог не пущу».
Особенно горячо обнимала соседка Эль-Мирру. И, обнимая, одной рукой гладила ей плечи, спину, другой торопливо ощупывала грудь, бока, живот – нет ли где изъяна. Поцеловала в губы, – не пахнет ли изо рта. Эль-Мирре стало не по себе от ее ласки. Блаженство, когда это делает Омар. Но тут тебе в ухо пыхтит толстуха-старуха. Противно!
– Хорошо слеплена девушка! – похвалила соседка Эль-Мирру. – То есть скроена, – перешла она на «швейный» язык. – Завидная невеста. Веришь, деточка, нет, но в твои годы я была еще тоньше и стройнее. Хе-хе.
Это она сказала, чтобы Эль-Мирра улыбнулась и показала зубы. Ровные белые зубы – верный признак крепкого здоровья.
«Все ясно, – кивнула себе швея, – Тоже свататься пришла. Моя-то дуреха – нарасхват? Может, к вечеру еще кто придет? Не продешевить бы».
– Подмети, детка, убери весь хлам, – велела она Эль-Мирре сладким голосочком. – Что же это мы? В кои-то веки соседка к нам заглянула – и усадить ее негде.
Эль-Мирра, потускнев от недобрых предчувствий, намочила веник в ручье, быстро вымела кошму, постелила, втрое сложив, одеяла, раскинула скатерть.
Все у нее спорилось в красивых маленьких ручках, и соседка заметила это.
«Будет хорошей работницей, опорой на старости лет».
– Скучно стало дома, – со вздохом уселась соседка на мягкую подстилку. – С утра у печки, насквозь прожарилась. И еще уборкой занимайся, еду готовь. Эх, нет у меня помощницы! Старшего сына хочу женить. И подумала я, да простит меня аллах: зачем искать невесту далеко, брать ее со стороны, когда через ограду, в соседнем дворе, живет девица на выданье? Вот и пришла посмотреть, разузнать, закинуть словечко…
– Уже просватана, – ответила хмуро швея.
«Омар обещает двести динаров – с тебя я тысячу сдеру».
– Как? За кого? – всколыхнулась соседка.
– Поэт, – кивнула в сторону тюрчанка, – предлагает за нее двести динаров. Лошадь с повозкой вызвался купить, нанять слугу. Шелк прекрасный мне подарил…
Вынула шелк, развернула, – и вся комната наполнилась мягким зеленым светом. Будто глыба изумруда засверкала в ее середине…
– И ты согласилась? – ахнула пекарша, тоже позеленев. Глыба изумруда как бы свалилась на ее голову.
– Почему нет? – пожала плечами швея. – Сочту за честь породниться с ним. Человек известный, солидный. И щедрый.
На губах у соседки появилась зеленая пена:
– Он же пьянчуга!
– Его дело. Все равно человек он особенный. Как-никак, с царями водился.
– Ну, когда это было! – вскричала жена пекаря, холодея при мысли, что добыча может ускользнуть от нее. – Было да минуло. Теперь он в опале. Омар человек пропащий. Поэт, одним словом. У него нет будущего. А сын мой – орел! Деловитый, хваткий. Высоко взлетит. Омар прогуляет все свое золото – и опять останется ни с чем, мой же Хаким привык беречь каждый фельс. Эль-Мирра будет за ним, как за каменной стеной.
– Вот именно! – съязвила Эль-Мирра. – То за теткой была, как за каменной стеной. С железной решеточкой наверху. Теперь у вас попаду за нее. Сиди и дрожи над каждым фельсом. Крыса твой сын, а не орел…
Ого! Девчонка-то зубаста.
– Ты при взрослых помалкивай! – осадила ее соседка. – Мы знаем кое-что… о жизни. В иных стенах, – отметила пекарша веско, – бывают проломы.
Эль-Мирра сразу потускнела. Неужто?.. Что теперь будет?
– Что скажешь, милая? – ухватилась пекарша за швею, не давая ей осмыслить намек.
– Не знаю, – тяжко вздохнула швея. Ее унылая, однообразная, как дешевая бязь, серая жизнь, состоящая нудного труда, скудной еды и усталого сна, нарушилась так внезапно, что она растерялась. – Пусть сама Эль-Мирра скажет, чего она хочет.
– Я выйду только за Омара.
Толстуха, жена пекаря, вернулась к вечеру с другой толстухой, женой имама квартальной мечети.
Нелегко ей было уговорить достойную женщину оставить прохладный, под густой шелковицей дворик. Тем более, что мечеть и жилье имама находились в другом, дальнем конце квартала. Изрядно упаришься в плотной чадре, пока доберешься сюда.
Одной стопкой лепешек дело не обошлось. Пришлось добавить еще две, и три десятка яиц, и пять дирхемов. И пообещать золотой динар.
Соблазнилась! Квартал-то бедный. Он – в той части Нишапура, где, в отличие от городского центра с его большими усадьбами, просторными садами, бассейнами, высокими медресе и мечетями, жуткая скученность и невзрачность. Где, как писал один арабский географ, «в людях… грубость, в их головах – легкомыслие; нет изящества и учтивости, нет красивых мечетей. Улицы захламлены, базары запущены. Бани грязные, лавки убогие, стены неровные.
В этой части города всегда случаются несчастья и водит с ней дружбу дороговизна. Мало фруктов и овощей, недостает деревьев для дров. Заработки трудные, средства к жизни – скудные.
Смуты жителей тревожат сердце, вражда среди них ранит грудь. Священнослужители вместе с ними погрязли в бедствиях и пороках. Когда эмир в отъезде, эта часть Нишапура приходит в расстроенное состояние. Простой народ, если крикнет и позовет кто-нибудь, сразу следует за ним; там дикие распри и скверные нравы».
Да, захудалый квартал. И выходное платье у жены имама такое, какое, скажем, жена купца Музафара постыдилась бы дома надеть…
Они, оттеснив хозяйку к стене, заполнили ничтожную каморку своими горячими телами и едким запахом пота.
Те же пыльные одеяла. Та же нечистая скатерть. Те же лепешки на ней, уже черствые. И миска с прокисшей сметаной, – пришлось разориться ради важных гостей. Не выходя за порог, терпишь убытки. Вся жизнь – убыток…