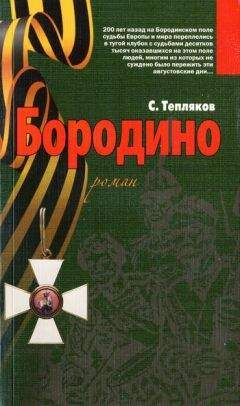Ознакомительная версия.
Он закутался в бурку, закурил трубку и задумался, невидящими глазами уставившись на поле. Бедряга, не решаясь потревожить, сидел на коне рядом…
…Только вечером 22 августа решилась судьба Давыдова, а может – и всей войны, Европы, Наполеона: Багратион вызвал Давыдова к себе и сообщил, что Кутузов согласен послать французам в тыл одну партию «для пробы», но сил даёт мало – всего пятьдесят гусар и сто пятьдесят казаков.
– Он хочет, чтобы ты сам взялся за это дело… – сказал Багратион.
«А кто же ещё?!» – удивлённо подумал Давыдов и ответил:
– Я бы стыдился, князь, предложить опасное предприятие, а потом уступить исполнение его другому. Вы сам знаете, что я готов на всё, была бы только польза. Но для пользы – людей мало…
– Он больше не даёт… – развел руками Багратион.
– Если так, то я иду с этим числом! – воскликнул Давыдов. – Авось открою путь большим отрядам.
– Я бы тебе дал сразу три тысячи, ибо не люблю ощупью дела делать, но об этом нечего и говорить… – Багратион пожал плечами. – Кутузов сам назначил силу партии, надо повиноваться.
– Повинуюсь, – усмехнувшись, ответил Давыдов.
(Из-за канцелярских проволочек его отряд не смог выйти 23 августа, а 24-го был бой за Шевардино, и Давыдов остался сам: «как оставить пир, пока стучат стаканами?» – писал он потом. От армии партия Давыдова отправилась лишь 25 августа).
– Остановимся здесь! – сказал Николай Муравьёв, натягивая поводья перед каким-то сараем. Деревня, в которую въехали офицеры генерального штаба, была Татарки (называвшаяся также Татариково и Татариново). Десяток избёнок частью был уже занят, частью – безжалостно разобран войсками на разные нужды. Сарай по меркам похода был удачей. Офицеры забрались в него через небольшую дыру невысоко от пола. Шибало в нос разными запахами, но Муравьёв и его товарищи за время похода и не к такому привыкли.
Все населившие сарай офицеры были грязны и чумазы, но давно перестали замечать это. Прожжённые при частых ночёвках у костра шинели снимали редко. Сапоги давно пропитались водой и были сырыми даже в сухие дни (да ведь и выступать в поход приходилось рано, по росе). Николай Муравьёв подумал, не снять ли сапоги – ноги, покрытые язвами, зудели нестерпимо, – но представил, как мучительно будет стягивать сапоги, а потом ведь неминуемо придётся их надевать, и решил перемочься так.
Он с тревогой посмотрел на своего брата Михаила. Тому было 16 лет. Ещё при подходе армии к Смоленску он начал кашлять, слабел, то и дело покрывался потом, по ночам его била лихорадка и даже в самые жаркие дни ему было холодно. При этом, он ездил с поручениями и ни разу не сказался больным.
– Миша, давай-ка я тебе сделаю чаю… – сказал Николай, стараясь улыбаться так, будто у Михаила лицо не покрыто холодным потом, не мутны глаза и не высохли губы. Михаил понимал улыбку брата, улыбнулся ему в ответ и ничего не ответил – не было сил. Николай Муравьёв стал шарить в своем чемодане в поисках заварки. В уголках глаз у него было горячо от слёз.
Они уже и забыли наверняка, как мечтали о бивачной жизни, выезжая в феврале 1812 года из Петербурга к армии. Тогда эта жизнь казалась им наполненной невыразимой прелестью и мужеством. Вместо прелести появились вши да болезни, большие и малые. Не было денег и весь поход Муравьёвы жили едва ли не голодом. Язвы на ногах Николая Муравьёва, как пояснил ему доктор, были следствием цинги.
По обычаю тех лет Муравьёвы числились под номерами: Михаил – Муравьёв 3-й, Николай – Муравьёв 2-й, а был ещё Муравьёв 1-й, старший брат, 20-летний Александр, которого в Царёво-Займище прикомандировали к командовавшему арьергардом генералу Коновницыну.
– Жаль, господа, что в этом сарае не спряталась какая-нибудь курица… – сказал Георгий Мейндорф, ещё весной, при первом знакомстве, прозванный остальными Чёрным за постоянно хмурый угрюмый вид. Потом оказалось, что это маска, носить которую у Мейндорфа скоро не осталось ни охоты, ни сил. Маска слетела, но прозвище осталось. – Да и вообще деревушка такова, что в ней вряд ли где имеются съестные припасы.
– Надо прибиться к фуражирам, может что и добудем… – проговорил 21-летний квартирмейстер Александр Щербинин, общий друг Муравьёвых.
– Кто же пойдёт? – спросил Мейндорф.
– Видно, это буду я, – ответил Щербинин. – Муравьёвы едва живы, а вы, Георгий, добывали провиант вчера.
Щербинин ещё немного полежал, явно решаясь на нелёгкий для него поступок, потом быстро встал, выбрался наружу, завернулся в шинель и пошёл к лошадям.
Тут Николай Муравьёв всё же нашёл мешочек с жалким количеством чая.
– Сейчас, Миша, будет тебе теплее. Попируем, как в Сырце, помнишь?
Сырец было имение Муравьёвых, куда они заехали по пути к армии ещё зимой. Слуги, последний раз видевшие своих молодых барчуков ещё когда те были совсем детьми, сбежались посмотреть на них, повзрослевших, приводили своих детей. Был сготовлен славный обед, воспоминания о котором в походе иногда грели, иногда мучили. Братья держали себя по-взрослому, как того требовал мундир, вели со стариками разные степенные разговоры, о чём потом вспоминали со смехом и некоторым стыдом. Они взяли себе в доме кто что: Александр отыскал где-то старую саблю, Николай – лядунку, а все вместе набрали зачем-то чайников и стаканов. Николай вспомнил, как деревенский старшина Спиридон Морозов принёс им список вещей и попросил «для порядку» отметить в нём, что взято, и как при этом они снова почувствовали себя мальчишками, которым вот-вот влетит от отца… Один из тех чайников сейчас и стоял на огне, который Николай подкармливал, рубя саблей в небольшие поленья найденную в сарае доску. Костёр он развел прямо здесь, под крышей – хоть и дымно, а всё же и тепло.
Когда чай вскипел, Муравьёв заварил его в одной кружке – при этой системе щепотка чая осталась и назавтра. В конце концов, главным в этом чае был не вкус, а температура. Михаил поднялся и пил чай, держа кружку обоими руками – так было теплее. Николай замечал, что чай, похоже, не греет брата. Лучшим лекарством была бы передышка на несколько дней и хоть какая-нибудь еда – но как раз этого никто не мог обещать.
Допив пустой чай, Михаил улыбнулся и сказал:
– Однако я посплю. Но если Щербинин придёт не с пустыми руками, непременно будите!
Николай улыбнулся ему в ответ. А когда Михаил завернулся в шинель и лёг лицом к деревянной стене, Николай выбрался из сарая наружу, дошёл до своей лошади по кличке Казак и зарылся в её гриву, чтобы тем, кто ходит вокруг, не было видно его слёз…
Начертить план (снять кроки) поля поручено было квартирмейстерскому поручику Егору Траскину. Весь день 22-го августа он провёл на поле, постепенно объезжая его и срисовывая часть за частью на листы бумаги, чтобы вечером вычертить единый план на одном листе. От края до края всё пространство составило восемь с половиной вёрст (около девяти километров). Траскин, как и его товарищи по Генеральному штабу, гревшиеся сейчас чаем в татариковском сарае, был усталый молодой человек, крайне измученный тяготами похода. К тому же поле это было уже далеко не первым, на котором предполагалось дать битву и которое срисовывал Траскин, и на лице Кутузова утром он не увидел особой решимости дать битву именно здесь. Работа представлялась Траскину бесполезной. К Утице он устал настолько, что рисовал уже кое-как, лишь бы быстрее отделаться, поэтому Утицкий лес получился у Траскина больше чем был.
23 августа Барклай, не дожидаясь, пока Кутузов напишет диспозицию, начал укреплять те места, на которых разместилась его армия: ставили батареи вдоль реки Колочи, у Горок, готовили к бою село Бородино. Особо же усиливали крайний правый фланг. Хоть он и без того был прикрыт излучиной рек Колоча и Москва, но здесь приступили к возведению трёх люнетов, связанных куртинами – это была земляная крепостца. Барклай ждал сюрпризов от Наполеона, а обход по флангу, который кажется противнику прикрытым самой природой до полной неприступности – очень хороший сюрприз.
Багратион же бездействовал – определённости в том, где будет левый фланг русской армии, не было. Да к тому же у 2-й армии отняли весь шанцевый инструмент в пользу 1-й армии. Потом, правда, приказ был отменён, но лопат и кирок всё равно было крайне мало. Багратион свирепел всё больше и больше. Он в эту кампанию считал, что все вокруг едва ли не нарочно оставляют на долю его армии все беды и несчастья. Вот и сейчас выходило так, что его армия имела за спиной Старую Смоленскую дорогу и Утицкий лес. «Придут ко мне лесом, а я и не замечу!» – угрюмо думал князь Багратион, выехав утром 23 августа из деревни Семёновское в Шевардино, где должен был встретиться с Кутузовым.
С Кутузовым приехал и Барклай. Багратион ещё раз сказал, что его левый фланг при таком расположении войск находится в крайней опасности. Кутузов, подумав, предложил, если к тому вынудит бой, отступить за Шевардинский курган, ближе к Семёновскому.
Ознакомительная версия.