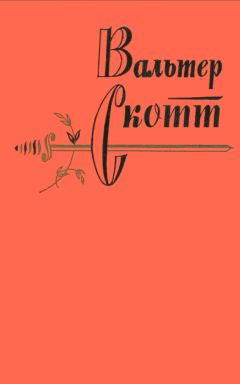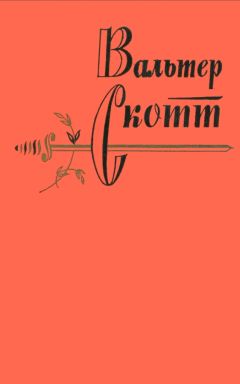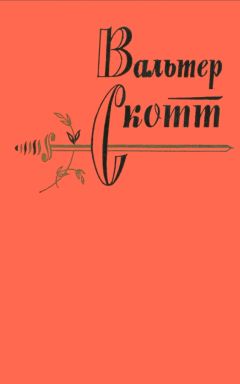Эти перерывы в путешествии отняли много времени, и когда дилижанс спустился с холма, возвышавшегося над гостиницей Хоуз, к югу от Куинсферри, опытный глаз антиквария — по ширине полосы влажного песка и по множеству видневшихся вдоль берега черных камней и покрытых водорослями утесов — усмотрел, что час прилива уже миновал. Молодой человек ожидал взрыва негодования. Но потому ли, что наш герой, как говорит Крокер в «Добродушном человеке», заранее негодуя на возможные бедствия, настолько исчерпал силы, что уже не был в состоянии почувствовать эти бедствия, когда они настали, или же потому, что нашел общество, в котором он оказался, слишком приятным, чтобы роптать на какие-либо задержки в пути, — во всяком случае, несомненно, что он покорился судьбе с большим смирением.
— Черт бы побрал этот дилижанс и старую ведьму, его хозяйку! Да и какой это дилижанс? Это же черепаха. Он ползет, как муха в горшке с клеем, по ирландскому присловью. Так или иначе, время и прилив никого не ждут. И поэтому, молодой друг, давайте подкрепимся в гостинице — это очень приличное заведение, — и я буду чрезвычайно рад докончить объяснение различий в способах окружения рвами castra stativa[9] и castra aestiva[10]; многие наши историки вносят в этот вопрос немалую путаницу. Увы, лучше бы они потрудились посмотреть на все это собственными глазами, чем глазами своих коллег! .. Ну что ж, здесь мы устроимся довольно удобно. И надо же нам в конце концов где-нибудь пообедать! Тогда переезд с новым приливом и вечерним бризом будет еще приятнее.
Покорившись обстоятельствам с таким истинно христианским смирением, наши путешественники сошли у дверей гостиницы Хоуз.
Сэр, что за нравы на дороге этой!
Мне что ни день дают бараний бок,
Засушенный настолько, что лишь терка
Его берет! И запивать извольте
Ужасной смесью сыворотки с пивом!
Претит мне это. Лишь в вине веселье.
Мой дом не остается без вина,
И мой девиз: «Я верю только в херес!»
Бен Джонсон. «Новая гостиница».
Когда старший путешественник, тучный, страдающий от подагры и одышки, спустился по шатким ступенькам дилижанса, хозяин гостиницы приветствовал его с той смесью фамильярности и почтительности, какой шотландские трактирщики старой школы придерживаются с особенно уважаемыми постояльцами.
— Господи боже, неужто это вы, Монкбарнс? (Он называл гостя по имени его поместья, что всегда ласкает слух шотландского землевладельца). Не думал я увидеть вашу милость ранее конца летней сессии!
— Скажет тоже, толстый старый черт! — ответил гость, чей шотландский акцент усиливался в минуты гнева, а в остальное время был малозаметен. — Старый скрюченный болван! Ну какое мне дело до сессии и до глупых гусей, которые туда слетаются, или до ястребов, которые им там выщипывают перья?
— И то правда! — согласился хозяин; он, собственно, говорил так только потому, что лишь смутно помнил об образованности гостя, но тем не менее был бы очень огорчен, если бы подумали, что он в точности не осведомлен об общественном положении и роде занятий того или иного, хотя бы и редкого, посетителя. — Совершенная правда! Только мне пришло в голову, что вам, может быть, надо было приглядеть за каким-либо собственным делом в суде. У меня у самого есть такое дело, и уж больно затянулась эта тяжба; ее оставил мне отец, а ему еще раньше — его отец. Это спор насчет нашего заднего двора — может, вы слыхали об этом в парламенте: Хатчинсон против Мак-Китчинсона. Известное дело, слушалось четыре раза еще до пятнадцатого года. В нем сам черт ногу сломит. Судьи так запутались, что только одно и знают — пересылать это дело из одного присутствия в другое. Любо смотреть, как бережно блюдут справедливость в нашей стране!
— Попридержи язык, болван, — остановил его путешественник, впрочем весьма добродушно, — и скажи, что ты можешь предложить этому молодому человеку и мне на обед.
— Прежде всего, конечно, рыбу: лососину и свежую треску, — сказал Мак-Китчинсон, вертя салфеткой. — И вы не откажетесь от бараньих котлеток; а еще есть пирожки с клюквенным вареньем — их совсем недавно пекли! И… и вообще все, что прикажете.
— Другими словами, больше ничего нет? Что ж, рыба, рыба, и котлеты, и пирожки — все это подойдет. Но только не подражай той мудрой медлительности, за которую ты так хвалишь суд. Чтобы мне не было никаких передач дела из одного присутствия в другое, слышишь?
— Нет, нет, — заверил его Мак-Китчинсон, который, внимательно читая отчеты о судебных заседаниях, нахватался кое-каких юридических фраз. — Обед будет подан quamprimum[11] и притом peremptorie[12].
И он со свойственной трактирщикам льстивой и обнадеживающей улыбкой оставил их в гостиной, где пол был посыпан песком, а стены увешаны олеографиями, изображавшими четыре времени года.
Поскольку, несмотря на обещание хозяина поспешить, достославная медлительность правосудия нашла свое подобие на кухне гостиницы, наш молодой путешественник имел возможность выйти и порасспросить местных жителей о звании и положении своего попутчика. Полученные им сведения носили общий и не вполне достоверный характер, но их все же было достаточно, чтобы ознакомиться с именем, жизнью и положением джентльмена, которого мы постараемся в нескольких словах представить непосредственно нашим читателям.
Джонатан Олденбок, или Олдинбук, в обычном сокращении — Олдбок, был родом из Монкбарнса и приходился вторым сыном джентльмену, владевшему небольшой недвижимостью в окрестностях процветающего портового города на северо-восточном побережье Шотландии, который мы по разным причинам будем называть Фейрпортом. Олденбоки обосновались там уже несколько поколений назад и в большинстве графств Англии считались бы семьей, занимающей видное положение. Но в здешнем графстве было полно джентльменов более древнего происхождения, к тому же обладавших большим состоянием. Кроме того, в последнем поколении почти все местное дворянство принадлежало к якобитам, тогда как владельцы Монкбарнса, как и жители города, близ которого находилось это поместье, были упорными последователями протестантизма.
Олденбоки тоже имели родословную, которой гордились не меньше, чем те, кто смотрел на них сверху вниз, ценили свою восходившую к саксам, норманнам или кельтам генеалогию. Первый Олденбок, поселившийся в их родовой усадьбе вскоре после Реформации, был, как говорили, потомком одного из первопечатников Германии и покинул родину из-за гонений на приверженцев лютеранской религии.
Он нашел убежище в городе, возле которого теперь жило его потомство. Его охотно приняли здесь, как пострадавшего за протестантское дело; конечно, не повредило ему также и то, что он привез с собой достаточно денег, чтобы приобрести небольшое имение Монкбарнс у промотавшегося владельца, чей отец получил его в дар, вместе с другими церковными землями, после упразднения большого и богатого монастыря, которому оно принадлежало. Поэтому Олденбоки при всех восстаниях оставались верными подданными короны. А так как они поддерживали хорошие отношения с городом, случилось, что уважаемый лэрд Монкбарнса в злосчастном 1745 году оказался мэром, причем деятельно выступал за короля Георга и даже понес в связи с этим значительные издержки, которые тогдашнее правительство, как всегда, щедрое к своим друзьям, так и не возместило ему. Однако путем настоятельных ходатайств и при поддержке влиятельных горожан ему удалось получить должность при таможне, и, как человек умеренный и бережливый, он сумел значительно приумножить отцовское состояние. У него было только два сына, причем нынешний лэрд, как мы уже дали понять, был младшим, и две дочери, одна из которых все еще цвела в благословенном безбрачии, а другая, значительно более юная, вышла по сердечной склонности за некоего капитана, служившего в 42-м полку и не имевшего за душой ничего, кроме чина и родословной своего горного клана. Бедность разрушила союз, который любовь могла бы сделать счастливым: капитан Мак-Интайр ради благополучия жены и двух детей, мальчика и девочки, вынужден был искать счастья в Ост-Индии. Когда его послали в экспедицию против Хайдер-Али, его отряд был отрезан, и бедная жена так и не узнала, пал ли он в битве, был ли умерщвлен в плену или остался в живых и прозябает в безнадежной неволе у индийского тирана. Она скончалась, не вынеся горя и неизвестности, и оставила сына и дочь на попечение брата, теперешнего хозяина Монкбарнса.
Жизнь этого землевладельца не богата событиями. Он был, как мы уже сказали, вторым сыном, и отец готовил его к участию в крупном коммерческом предприятии, руководимом родственником с материнской стороны. Однако против такого плана Джонатан восстал самым непримиримым образом. Тогда его определили в учение к юристу, чтобы он сделался стряпчим или адвокатом. В этом деле он преуспел настолько, что овладел всеми формами феодальных инвеститур. Ему доставляло такое удовольствие примирять их противоречия и выяснять их происхождение, что патрон очень надеялся увидеть его в будущем хорошим ходатаем по земельным делам. Однако он медлил на пороге храма юстиции и, хотя приобрел некоторые знания по вопросам истории и системы законоположений своей страны, никак не поддавался уговорам практически использовать эти знания в целях извлечения дохода. Но если он так обманул надежды своего патрона, то вовсе не из легкомысленного пренебрежения к выгодам, связанным с обладанием деньгами. «Будь он обеспечен, или бестолков, или rei suae prodigus[13], — говорил его наставник, — я бы понял его. Но он никогда не истратит и шиллинга, не проверив внимательно сдачу. Шести пенсов ему хватает на больший срок, чем другому полукроны, и он может целыми днями размышлять над какими-нибудь парламентскими актами, отпечатанными готическим шрифтом, вместо того чтобы сыграть в гольф или сидеть в таверне. И все же он не посвятит даже дня несложному судебному делу, которое позволило бы ему положить в карман двадцать шиллингов. Странная смесь умеренности и прилежания, с одной стороны, и нерадивости — с другой. Нет, мне его не понять! »