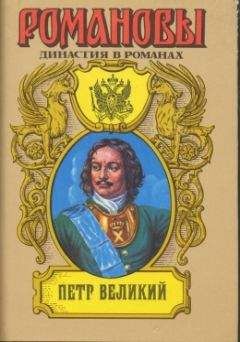Окончив, Иван спрятал цедулу за пазуху и сразу, как бы присмирев, уселся на бугорок.
– Вот до какого сорому доброта моя довела меня! Быть мне из-за вас на козле под кнутом.
У ног его метался запутавшийся в примятой траве кузнечик. Сафонов тяжело наступил на него и резко вскочил.
– Ан не бывать тому! Семь шкур с вас спущу, а добуду оброк ко времени!
Его охватил вдруг приступ лютого гнева. Он размахнулся с плеча и ударил кулаком по зубам ближе всех стоявшего старика.
– Утресь же все собрать! До остатнего! А ослушаетесь, не я буду, на издельщину перегоню!
Угроза эта хлестнула крестьян больнее самого беспощадного удара бича.
– Не губи! – пал сход в ноги приказчику – Дай срок, приедут купчины, всё выплатим, чем господарь изоброчил!
Заложив руки в бока, Сафонов молча пошёл к деревне. Едва он скрылся за косогором, бабы с рёвом и причитаниями побежали на луг.
Крестьяне сумрачно уставились в землю и о чём-то мучительно думали.
– Цыц! – прикрикнул на баб побитый старик. – Застрекотали, сорочье племя!
Женщины ещё оглушительнее зашумели. Не слушая ни себя, ни других, не зная ещё хорошо, в чём дело, они требовали, чтобы сейчас же, всем миром, идти в город с челобитною на Сафонова. Мужикам пришлось пустить в ход кулаки, чтобы как-нибудь добиться порядка.
– Как же быть? – спросил маленький человечек, заросший до глаз серою, как его глаза, бородою. – Неужто же придётся издельным стать?
– А и стать, Андреюшко, – спокойно подтвердил его сосед Пётр Охапкин. – Иль не все едино тебе, что в оброчных, а либо в издельных маятой крестьянскою маяться?
Андрей небрежно отмахнулся от старика.
– Тебе-то всё единственно, где силки на птах ставить да баклуши бить, а мы, как трудами жительствуем да в труде изнываем…
Хлюпающий, точно плач младенца, хохот Охапкина заглушил последние слова Андрея.
– Вот то-то ж сказываю и я: вот то-то ж, что в труде изнываете, а брюхо все впусте у вас пребывает!
Он неожиданно смолк и, сгорбившись, отошёл к стороне.
Трясущиеся от старости пальцы, крадучись, смахнули с поблёкших глаз проступившие слёзы.
Сход гомонил, тщетно придумывал выходы из создавшегося положения. Страх попасть из оброчных в издельные был до того велик, что под конец все решили идти к соседнему помещику и предложить ему свои изделия за какую угодно цену, лишь бы добыть нужную для выплаты оброка сумму.
– Беда ли в том, что разоримся? Даст Бог добрых дней, сызнова поправимся, – словно оправдывались друг перед другом крестьяне. – Зато как были оброчными, так и останемся. А в издельные угодим, все пойдёт пропадом.
Борода Андрея колыхалась дымовою завесою, в ней застревали, тонули беспомощные слова:
– Ныне деньгами да рукомеслом откупаемся. А на издельщине трудом своим отдавай господарю то, что ему полагается. Поди вот, порассчитай, сколь труда ему нашего надо. Труд не деньги, не отмеришь его!
Ночью от избы приказчика поскакал в город гонец. На дворе яма, передав коня хозяину, он стремглав бросился в горницу.
На широкой лавке храпел какой-то горбун.
– По здорову ль, Антипушка? – шлёпнул гонец спавшего по бедру.
Горбун ошалело вскочил и, сунув руку под изголовье, выхватил топор.
– Кой леший тут ходит?!
Но, узнав гостя по голосу, сразу успокоился.
Гонец уселся на лавку и шёпотом передал обо всём, что произошло днём в Чекановке.
– Ловко Сафонов их напужал! А? То-то ж! Умственный Сафонов мужик. А с купчинами придумал-то каково? А ни единого в Чекановку не допустил. Во как для тебя старался!
– Значит, пора и торг торговать! – хихикнул Антип.
– Задаром всё отдадут, – подтвердил убеждённо гость. – Деваться-то некуда!
Он помолчал и шумно вздохнул.
– Им двести рублёв отвалишь, Ивану за радение полста да половину с полёта мне за труды.
Горбун всплеснул руками.
– А мне же какая будет корысть? В уме ли ты, чадушко?
Они долго, с ожесточением спорили. Антип клялся перед образами, что истратил уйму денег на мшел[12] дьякам, которые должны были следить за тем, чтобы ни один купчина не пробрался в селения, принадлежащие господарю. Гонец упрямо стоял на своём, не уступал.
– А товару на много ли? – бессильно прохрипел наконец Антип и с ненавистью оглядел гостя.
– Коли мене чем на семьсот наберётся, нам с Сафоновым ничего не плати.
Жадно облизнувшись, горбун ударил с гонцом по рукам.
Не успели выборные от чекановцев собраться в путь к соседнему господарю, как по низеньким, вросшим в землю избам прокатилась счастливая весть:
– Купчина! Купчина едет!
Вся деревня высыпала за околицу. По дороге, утопая в пыли, тяжело полз обоз.
Въехав на улицу, Антип соскочил с воза и сразу же приступил к осмотру товара. За ним шагал его приказчик и молча отмечал что-то на листе бумаги.
– Уж не отъехать ли нам, покель зря денег не загубили? – щёлкнул себя Антип двумя пальцами по горбу, – Товар—то… того… нестоящий, можно сказать, товар—от…
Сафонов, изо всех сил пытавшийся показать, что держит сторону крестьян, выступил из толпы и возмущённо поглядел на купчину:
– Кой тебе ещё товар нужен, коль сей товар не товар!
Начался торг, жестокий, как спор смертельных врагов. Но больше всех неистовствовал Сафонов. Он лез на Антипа с кулаками, ругал его мироедом, христопродавцем, грозил, что пойдёт жаловаться на него воеводе, и призывал крестьян стойко держаться раз назначенной цены.
Только когда Антип приказал головному вознице тронуться в путь, Сафонов начал сдавать. Он чуть ли не со слезами молил купчину пожалеть убогих людишек, не разорять их.
– Добро уж! – перекрестился наконец горбун. – А по-Божьи, так и на моей шее крест: от щедрот своих жалую к сотне с полстами рублёв ещё полста! Не жалко для Бога!
Сафонову больше нечего было делать на улице. Он ушёл в избу пересчитывать полученный от Антипа мшел.
По соседству с Пушкиным, во владениях стольника Евстафия Суворова, жил крепостной человечишка Петрушка Трифонов. Как-то по весне суворовский приказчик погнал людишек в бор заготовлять сруб для новых господарских хором. В первый же день работы с Петрушкой приключилась большая беда: повалившейся сосной ему раздробило правую руку. Оправившись немного после долгой болезни, Трифонов, чтоб как-нибудь прокормиться самому и не дать умереть с голоду шестерым ребятишкам, вздумал испросить позволения у стольника оставить деревню, чтобы заняться нищенством.
Проведав, что у соседа есть пустой жеребей, Андрей из Чекановки подбил некоторых крестьян снять этот жеребей.
Трифонов, не задумываясь, заключил сделку. Чекановцы принялись за посев.
Год выдался удачливый, рожь поднялась выше пояса, колос : до того налился и отяжелел, что стебель гнулся к самой земле.
Наступила пора уборки хлеба. С весёлой песней пришли на жеребей чекановцы и дружно принялись за жатву. Тут же болтался у всех под ногами Пётр Охапкин. Он подбегал то к одному, то к другому крестьянину, норовил со всеми заговорить, его прозрачное, всё в серебряных паутинках лицо светилось, а глаза излучали такой покой и столько было в них задушевной теплоты, что работающие не только не гнали его от себя, но сами задерживали его шутками и добрым словом.
Охапкин чувствовал, что мешает людям, неожиданно становился серьёзным и оглядывал жеребей.
– Сём-ка, и я снопок соберу! – выкрикивал он и деловито засучивал рукава.
От натуги вытягивалось лицо, на кончике тонкого, в синих жилках, носа переливались мутные капельки пота. Однако, едва принявшись за дело, он тут же бросал его и, раздавая беззубый рот в широчайшей улыбке, с размаху падал вдруг в пропахнувшую мёдом траву.
– Святой, – шептались крестьяне. – За всех за нас молитвенник перед Богом.
А Пётр ковыляет уже к дочери Андрея, Даше, и так взмахивает худенькими руками, как будто пытается оторваться от земли. В кулачке крепко зажат венок из ромашек и васильков.
– На, бери, девонька. Безгрешное к безгрешному завсегда к лику
Даша смущается, но всё же с глубоким поклоном принимает венок и ещё с большим рвением продолжает вязать снопы.
Вечереет. Свиток сумерек медленно развёртывается палевым древним пергаментом. На жеребьях, точно кельи в скиту, курятся в тумане скирды. Пугливо ёжится лес, плотнее смыкается и теряет обычные свои очертания; то и дело всхлипывают просыпающиеся голодные совы. Над рекой, обрядившись в перламутровые охабни, задумчиво перешёптываются о чём-то ивы; их вершины украшены чёрными монашескими клобуками – вороньими стайками. У дороги, сквозь тающий в тумане кустарник, широко раскинувшимися павлиньими хвостами золотятся костры. У одного из них возится с ведёрком Даша – готовит крестьянам варево. Ей помогает Луша. Охапкин обнажил спину, греется у огонька, хоть вокруг и разлито нежное, как запах свежего сена, тепло.