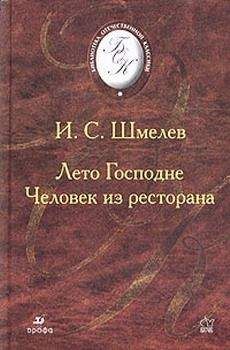И вот этот Иван Николаевич Карасев каждый вечер стали к нам наезжать и столик себе облюбовали с краю оркестра, а раньше все если не в кабинете, то против главных зеркал садились. Приедут к часу открытия музыки и сидят до окончания всех номеров. И смотрят в одно направление. Мне-то все наглядно, куда они устремляются, потому что мы очень хорошо знаем взгляды разбирать и следить даже за бровью. Особенно при таком госте… И глазом поведут с расчетом, и часы вынут, чтобы бриллиантовый луч пустить прямо в глаз. Но ничего не получается. Водит смычком, ручку вывертывает, а глаза кверху обращены, на электрическую люстру, в игру хрусталей. Ну, прямо — небожительница и никакого внимания на господина Карасева не обращает. А тот не может этого допустить, потягивает шлосганисберг пятьдесят шесть с половиной — семьдесят пять рублей бутылочка! — и вздыхает от чувства, а ничего из этого не выходит. И вот сидели они тогда, и при них для развлечения директор Штросс, а я в сторонке начеку стою. Вот Карасев и говорит:
— Не понимаю! — резко так. — И в Париже и в Лондоне. И я удивлен, что…
Очень резко. А как гость горячо заговорил, тут только смотри. Даже наш Штросс задвигался, а он очень спокойный и тяжелый, а тут беспокойство в нем и сигару положил. Подбородок у него такой мясистый, а заиграл. Притронулся к руке господина Карасева, а голос у него жирный и скрипучий, так что все слышно.
— Глубокоуважаемый… У нас не было еще… но как угодно… для музыки…
И сигару засосал. А Карасев так ему горячо:
— Вот! Это у меня правило, и я желаю оценить… И я всегда…
А Штросс не отступается от своего.
— У вас, — говорит, — тонкий вкус, но я не ручаюсь… И что-то шепотом. Уж и хитрый, хоть и неповоротливый по толщине. Сказывали, будто он уж заговаривал с барышней в коридоре, но она очень равнодушно обошлась. А Карасев плечами пожали и меня пальцем. Вынимает карточку и дает мне:
— Сейчас же к Дюферлю, чтоб букет из белых роз и в середку черную гвоздику! И чтобы Любочка собрала! Она мой вкус знает. Живей!
Вижу, какое дело начинается. А-а, плевать. Покатил я за букетом, а в мыслях у меня, сколько он мне за хлопоты отвалит. Вот и дело с Кривым уладим, дам ему трешник за пиджак… А как вспомнил про его слова — хоть домой беги. Вот что внутри у меня делается.
Подкатил к магазину, а там уж запираются. Но как показал карточку — отменили. Хозяин, немец, так и затормошился. Руки потирает, спешит, барышень встормошил…
— Сейчас, сейчас… Где нож? Проволочки скорей!.. Мальчишку пихнул, схватил кривой ножик и прямо в кусты.
Сказал я ему, что барышне Любочке приказали делать, а он и не вылезает. Тогда я уж громче. Выскочил он из цветов, вынул из жилетки полтинник и сует:
— Скажите, что она… Ее сейчас нет, но скажите, что она… Я по их сделаю, уж я знаю… Для молодой девицы букет или как?
И барышням по-французски сказал, а те смеются. Сказал я — для кого.
— А-а… в ресторане? Хорошо. И вдруг красную розу — чик!
— Из белых наказали, — говорю. — И гвоздику черную в середку.
— Да уж знаю! — И опять с барышнями по-своему, а те улыбаются. — Будет с гвоздикой.
И посвистывает. Роскошный букет нарезали, на проволочки навертели, распушили, а красную-то растрепали на лепестки и внутри пересыпали. И вышел белый. А черная гвоздика, как глаз, из середки глядит. Лентами с серебром перехватил — и в бант. Потом поднес лампочку на шнурке к стеклянному шкафу и кричит:
— Наденька, выберите на вкус… Нюточка!.. Стали они спорить. Одна трубку с серебряной змейкой указывает, а другая не желает.
— Им, — говорит, — Фрина лучше… Я его знаю вкус. А немец и разговаривать не стал.
— Змею — это артистке, а тут Фрина лучше, раз в ресторане…
И вытащил из шкафчика. Почему Фрина — неизвестно, а просто женская фигурка вершков восьми, руки за голову, и все так, без прикрытия. Букет ей в руки, за голову, закрепил во вставочку, и вышло удобно в руках держать за ножки. Потом на ленты духами спрыснул и в станок, в картон поместил.
— Осторожней, пожалуйста… И скажите, что Любочка. Не помните…
Сам даже дверь отворил. Только я наверх внес, сейчас Игнатий Елисеич подлетел, букет вытянул и на руку от себя отставил. И языком щелкнул, как фигурку увидал.
— Вот так штучка! — И пальцем пощекотал. Очень все удивлялись и посмеялись. Потом через всю белую залу для обращения внимания понес. Встал перед Иваном Николаевичем, а букет на отлете держит. Очень красиво вышло. А тот ему:
— Дайте на стол! — даже строго сказал и платочком обтерся.
Очень им букет понравился, и директор хвалил. А тот все:
— Вот мой вкус! Очень великолепно?
— Очень, — говорит, — хорошо, но она как взглянет… Она от нас в театр все собирается…
— Пустяки… — И пальцами пощелкали. А тут пришел офицер и занял соседний столик, саблей загремел. Оркестр играет номер, а барышни уж заметили, конечно, букет и поглядывают. Не случалось этого у нас раньше. Ну, в кабинетах бывали подношения разным, а теперь прямо как на театре. А Капулади и не глядит. Водит палочкой, как со сна. Конечно, ему бы поскорей программу выполнить и фундамент заложить. А барышня Гуттелет такая бледная и усталая смычочком водит, как во сне. А офицер вытащил из-за борта стеклышко, встряхнул и вставил в глаз. Отвалился на стуле и на оркестр устремил в пункт, где она в черном платье с кружевами и голыми руками сидела.
Уж видно, на что смотрит. Вот, думаю, и еще любитель. Много их у нас. Почти все любители. А он вдруг меня стеклышком:
— Вот что… гм… Вижу, будто ему не по себе, что я им в глаза смотрю, а сам о них думаю. Точно мы друг друга насквозь видим.
— Это, — говорит, — давно этот оркестр играет? — И глаза отвел.
А я уж понимаю^ что не это ему знать надо. Я их всех хорошо знаю, — все больше обходом начинают.
— Так точно, — говорю. — Третий год… Как не знает… И раньше бывал у нас. Знает, отлично знает.
— А-а-а… — А потом вдруг и перевел: — Кто эта, справа там от середки, худенькая, черненькая:?
Вот ты теперь, думаю, верно спросил.
— Нам неизвестно… Недавно поступили.
А тут оркестр зачастил — к концу, значит. Карасев и дал знать метрдотелю:
— Подайте мамзель Гуттелет! Игнатий Елисеич поднял букет кверху и опять его на руку отставил и так держит, что отовсюду стало видать, и дожидается. И все стали смотреть, а директор поднялись и вышли. А барышни так спешат, так спешат, понимают, что сейчас необыкновенное подношение будет, и, конечно, интересуются, так что Капулади палочкой постучал и реже повел. А та-то, как опустила глаза от люстры, посмотрела на букет и как бы не в себе стала. Только Капулади все равно. Водит и водит палочкой, как спит. Потом сделал вот так, точно разорвал слева направо, и кончилось. Сейчас метрдотель перегнулся, даже у него фалды разъехались и хлястик показался от брюк, — очень пузастый он, — и букет через подставки подает двумя руками. Очень торжественно вышло и обратило большое внимание. А барышня даже откинулась на стуле и опустила руки. И Игнатию Елисеичу пришлось попотеть. Все протягивал букет в очень трудном положении, как из-за стульев что вытаскивал, и стал у него затылок вроде свеклы. И даже боком изогнулся, чтобы барышню от публики не заслонить. Потом его Иван Николаевич распушил. А как он протягивал, сам-то Иван Николаевич тоже напряглись в направлении букета и лафитничек держат у губ, будто пьют за здоровье. А у метрдотеля голос густой, и на всю залу отдалось:
— Вам-с… букет вам-с от Ивана Николаевича Карасева!..
Но только это сразу кончилось. Капулади увидал, как та удивлена, сам взял букет и поставил на пол у нотной подставки. Потом сразу палочкой постучал, и вальс заиграли. А господин Карасев приказали мне директора пригласить. Конечно, стало очень понятно, для чего букет. И все принялись барышню рассматривать. А меня даже один гость знакомый, старичок, пивоваренный заводчик, господин Арников, очень отважный насчет подобных делов, подозвали и задали вопрос:
— Это Карасевская, что ли, новенькая, хе-хе?.. Ничего товарец…
Вот. Как знак какой поставлен. Это и я пойму. Артисткам там — другое дело, а тут ее и не слыхать в музыке. Это уж обозначение, что, мол, желаю тебя домогаться и хочу одолеть!
Так явственно помню я все, потому что этот самый Карасев и потом меня очень беспокоили, а у меня дома такое тревожное положение началось. С Кривого-то и началось… И много хлопот мне в тот вечер выдалось по устройству замечательного пира, а на душе — как кошки… Посмотришь на окна и думаешь: а что-то дома? Ноет и ноет сердце. И все кругом — как какая насмешка. И огни горят, и музыка, и блеск… А посмотришь в окно — темно-темно там и холодно. Рукой подать, за переулком, дом барышень Пупаевых, а на заднем дворе, во флигельке, — вонючий флигелек и старый, — Луша халаты шьет на машинке для больницы… И думается: а что завтра-то?
А господин Карасев с директором свое: