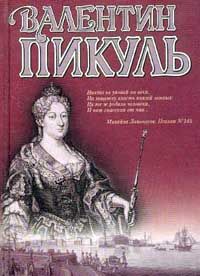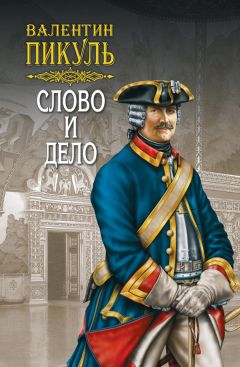— Только одно мое слово послу Вены, — ответил Жюббе, — и этого цесарца не будет в Москве завтра же. Никто не смеет мешать великому Риму, а нашей церкви выгоден этот брак — брак Долгорукой с императором… Впрочем, — слегка нахмурился Жюббе, — в этой варварской стране молнии иногда разят среди ясного неба, и един всевышний ведает судьбы людские!
Герцог де Лириа встал, и “золотой телец” долго еще качался на его груди, подобно маятнику. На прощание Жюббе подарил ему пачку благовонных бумажек.
— Откуда это у вас, аббат? — удивился посол.
И в ответ ему тонко усмехнулся аббат Жюббе-Лакур:
— Не проговоритесь Риму о моем кощунстве, но Московию я почитаю центром вселенной. Отсюда, из дома Гваскони, мои руки уже протянуты к Шемахе, они бесшумно отворили ворота Небесной империи и даже… Откуда, вы думаете, эти душистые бумажки?
Де Лириа глубоко вдохнул в себя благовонный дым:
— Не могу поверить… Неужели из Тибета?
— Вы угадали, герцог. Солдаты Иисуса сладчайшего уже взошли с крестом божиим на вершины гор загадвчного Тибета… Нет путей в мир Востока иных, нежели путь через Москву.
— Аминь!
***А за Яузой, что бежала под снегом, в оголенных кустах боярышника и берсеня, уже припекало солнышко…
Граф Альберт Миллезимо, секретарь посольства Имперско-Германского, наслаждался бегом русских коней. Лошадиные копыта взрывали комья рыхлого снега, бился в лицо венского графа сладкий московский ветер… Молодой дипломат не скрывал своего счастья: пусть все видят на Москве — едет жених, едет возлюбленный Екатерины Долгорукой! Счастлива юность — даже на чужой стороне. И думалось с нежностью: “Ах, милая княжна, с ногами длинными, с важной поступью боярышни, скоро блистать тебе на балах в прекрасной Вене!"
— Вон летят сюда галки, — показал служитель Караме. — Не пора ли вам, граф, опробовать свою новую фузею?
Миллезимо вскинул ружье — выстрелил. Над притихшей Яузой, над усадьбами, утонувшими в снегах, четко громыхнуло. А со стороны дворца Лефортовского, скользя и падая, бежали по солнечной ростепели русские гренадеры. На ходу они примыкали штыки.
— Что бы это значило? — удивился Миллезимо… Первый же гренадер, добежав до посольского возка, рванул Миллезимо из саней наружу, атташе запутался ногами в полсти.
— О, какое лютое наказанье ждет вас за дерзость эту! — кричал он по-чешски, надеясь, что русские поймут его.
Лошади дернули — Миллезимо остался в руках гренадеров, и они поволокли атташе через речку по снегу.
— Куда вы меня тащите? — спрашивал он. На крыльце дома князей Долгоруких стоял, налегке, без шуб, сам хозяин — возможный тесть легковерного цесарца. Гренадеры доволокли Миллезимо и бросили его возле ступеней.
— Любезный князь, — поднялся атташе, — что происходит на глазах всей слободы Немецкой? Я жду ответа и гостеприимства, каким столь часто пользовался в вашем доме.
— Весьма сожалею, граф, что вы попались этим молодцам. Но таково поступлено с вами по воле государевой.
— В чем провинился я? — спросил Миллезимо.
— По указу его величества под страхом наказания свирепого запрещено иметь охоту на тридцать верст в округе Москвы…
В мутном проеме окна Миллезимо вдруг разглядел испуганное лицо княжны Екатерины Алексеевны и загордился сразу:
— Указа я не знал. Но я стрелял по галкам. Долгорукий плюнул под ноги цесарца и спиной к нему повернулся, уходя прочь. Лица княжны в окне уже не виделось. Значит, не блистать ему в Вене с русской красавицей… Вышел на крыльцо лакей-француз и сказал:
— Не обессудьте, сударь, на огорчении; в этом доме принимают русского императора, но совсем не желают принимать вас…
Отвадив Миллезимо, князь Алексей Григорьевич сыскал в комнатах свою любимицу — Екатерину. Еще издали оглядел дочь: “Хороша, ах, до чего же хороша бестия… Воистину — царский кусок!” Княжна стояла возле окна, и по тряске плеч ее отец понял: видела дочка, как отшибали цесарца, и теперь убивается…
— Ну-ну, — сказал поласковей, — будет грибиться-то… Экими графами, каков Миллезимо, на Руси дороги мостят! Лицо дочери — надменное, брови на взлете — саблями.
— Я, тятенька, вашим резонам не уступлю, — отвечала. — Кто люб, того и выберу. Девицы варшавские эвон какие свободы ото всех имеют. Даже по женихам без мамок одни ездят…
Алексей Григорьевич поцеловал дочь в переносие:
— Слышь-ка, на ушко тебе поведаю… Государь-то наш император уж больно охоч до тебя, Катенька.
— Постыл он мне! — отвечала княжна в ярости.
— Да в уме ли ты? Подумай, какова судьба тебе выпадет, ежели… В карты с ним частенько играешь. Иной раз и за полночь! Ты его и приголубь, коли он нужду сладострастную возымеет.
— Тьфу! — сплюнула княжна. — Гадок он мне и мерзостен!
Посуровел князь, обвисли мягкие брыли щек, плохо выбритых.
— Это ты на кого же плюешь?
— Да уж, вестимо, не на вас же, тятенька.
— А тогда — на царя, выходит? На благодетеля роду нашего?
Взял косу дочкину, намотал ее на руку и дернул. Поволок девку по цветным паркетам (тем самым, кои из дома Меншиковых украл и у себя настелил). Трепал Катьку да приговаривал:
— Нет, пойдешь за царя! Пойдешь… Быть тебе в царицах российских. Поласковей с царем будь…
Трепал свою Катьку без жалости. Потому как знал ее нрав.
Не пикнет!
***Винный погреб испанского посла дважды бывал загублен в Петербурге (при наводнениях). Он перевез его теперь в Москву и каждую бутылку ставил в счет своему королю… Сегодня в испанском посольстве — ужин для персон знатных.
— Продолжайте, мой друг, — сказал де Лириа, обращаясь к князю Антиоху Кантемиру, и тот заговорил:
— Смело могу изречь, что племена суть восточные ничем не нижае племен западных, и великий Епиктет, родоначальник филозофий моральных, тому мне немало способствует…
— Ну зачем ты все врешь, Антиошка? — грубо перебил его молодой граф Федька Матвеев, на стульях вихляясь, и стало тихо.
— Я вас, граф, — заметил де Лириа, — прошу не мешать.
— А я тебя не знаю, — отвечал пьяный Матвеев послу Испании.
— Позволительно ли бывать в доме, хозяина коего вы не знаете? Вы нанесли мне, граф, оскорбление, сославшись на незнание особы, коя при дворе российском от имени короля моего поверенна, и прошу вас, граф, выбрать оружие для благородного поединка…
Матвеев взял бутыль с мозельским (в 50 копеек на русские деньги) и запустил ее в испанского посла.
— А теперь, — сказал де Лириа, — я буду требовать удовлетворения. Но уже не от вас, дикаря, а от вашего правительства…
Вскочил хмельной князь Ванька Долгорукий (куртизан):
— Еще чего — верховных беспокоить… Эй, люди! — кликнул он со двора гайдуков своих. — Ведите графа Федьку на двор и расстилайте его. Пять палок по заду его сиятельства не помешают…
Не поленился — сам сбегал и вернулся обратно, учтивый:
— Дал все десять, с задатком, чтобы неповадно было… Ваша светлость, удовлетворены ли вы?
— Вполне, — отвечал де Лириа, снова повернувшись к притихшему Кантемиру. — Продолжайте же, мой юный друг? Вы остановили свое красноречие как раз на философий Епиктета…
Кантемир от Еггиктета перешел к Фенелону. А с улицы еще долго кричал им Федька Матвеев словами зазорными:
— Собрались.., эки умники! Я тебе, Ванька, не прощу.
Коли попадешься мне, стану бить палкой неоструганной, чтобы занозы из зада вынимал ты долго…
Прощаясь с гостями, де Лириа задержал Долгорукого:
— Вы так любезно вступились за мою дворянскую честь. Благодарю, благодарю… Но скажите, не сможет ли вам отомстить этот наглый гуляка Матвеев?
— На Руси, герцог, — мудро отвечал куртизан, — мстит родня. А у Федьки из родни одна мать, коя состоит ныне гофмейстериной при дворе герцогини Курляндской Анны Иоанновны.
— Анна Иоанновна… А кто это такая? — спросил де Лириа.
"Бытие Руси, — говорил Остерман, — определяется наличием немцев в России: главные посты заняты нами — значит, Россия на пути к славе, посты заняли русские — значит, Россия пятится к варварству…” Но такие речи слышали одни земляки его.
Сын пастора из Вестфалии, Генрих Иоганн Остерман недолго в Иене науки штудировал. Вокабулы кое-как постиг, а метафизики не смог объять разумом. Куда деться бедному студиозу?.. Старший братец Остермана — Христофор Дитрих (или Иван Иванович) уже прижился в России: на селе Измайловском обучал он дочерей царя Иоанна Алексеевича “благолепию телесному, поступи немецких учтивств и комплиментам галантным”. Бедный студиоз Генрих Остерман тоже нанялся к русскому адмиралу Корнелиусу Крюйсу: ботфорты ему чистил да пиво студил. И адмирал в настроении похмельном вывез Остермана в Россию, где его и стали величать Андреем Ивановичем… Давно это было!
А сейчас Остерману уже под пятьдесят. Он вице-канцлер империи, он начальник главный над почтами, он президент Коммерц-коллегии, он член Верховного тайного совета… Жарко стреляют печи в старобоярском доме Стрешневых, на Дочери которых женат вице-канцлер. Андрей Иванович сиживает в креслах на высоких колесах. Шлепая ладонями по ободам, покатывает себя по комнатам. Блеск русского самодержавия озаряет чело барона…