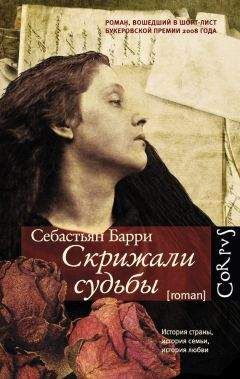— Ты отошла подальше, доченька?
— Отошла, папочка! — отозвалась я, почти крича, ведь моим словам надо было проделать такое огромное расстояние и пролезть в такое маленькое окошко, чтобы добраться до него.
— Тогда я открываю сумку! — крикнул он. — Смотри!
— Я смотрю, папочка!
Одной рукой он неловко раскрыл сумку и вытряс ее содержимое наружу. Я видела, как он клал все туда. Там была пригоршня перьев, которую он выдрал из прикроватного валика, невзирая на причитания жены, и два остроконечных молотка для починки оград и надгробий.
Я смотрела и смотрела. Кажется, я слышала странную музыку. Щебет галок и скрипучий клекот грачей, угнездившихся в огромных буках, складывались у меня в голове в какую-то мелодию. Шея у меня ныла, но я вся разрывалась от нетерпения скорее увидеть, чем закончится этот элегантный опыт, который, как сказал отец, может стать для меня чем-то вроде основы мировоззрения.
Хотя не было ни малейшего ветерка, перья мгновенно разметало будто взрывом и тотчас же унесло вдаль — серые пятнышки против серых облаков, практически неразличимые. Перья летели, летели вдаль. Отец все кричал и кричал мне с башни, в страшном возбуждении:
— Ну, что видишь, что видишь?
Что я тогда видела, что знала? Иногда мне кажется, что когда в ком-то вдруг прорывается нелепость, нелепость, порожденная, быть может, отчаянием, как это случилось много лет спустя с Энусом Макналти (про него вы еще не знаете), тогда-то тебя и пронзает любовью к этому человеку. Это любовь — которая ничего не знает, ничего не видит. И вот я все стою и стою там, все пытаюсь разглядеть что-то, заломив шею, все всматриваюсь и вытягиваюсь — пусть даже и только потому, что люблю его. А перья все кружатся и улетают, улетают. Отец зовет и зовет меня. Мое сердце рвется к нему. И молотки все падают.
Дорогой читатель! Дорогой читатель, если ты хороший, добрый человек, как бы я хотела ухватиться за твою руку. Я хотела бы столько всего невозможного. Тебя у меня нет, но зато есть много чего другого. Бывают мгновения, когда всю меня пронзает невыразимой радостью, так, будто бы, не имея ничего, я в то же время владею целым миром. Будто бы, сидя в этой комнате, я на самом деле сижу в предбаннике рая, и вскоре передо мной откроются двери и я выйду к зеленым полям и обнесенным изгородями фермам, вознагражденная за все мои муки. Такой зеленью горит эта трава!
* * *
Утром заходил доктор Грен, и мне пришлось мигом припрятать эти записи. Не хочу, чтобы он их увидел и стал меня расспрашивать, потому что здесь уже появились секреты, а мои секреты — это и мое имущество, и мой разум. К счастью, я еще издали услышала, как он идет по коридору, потому что у него металлические набойки на ботинках. И, к счастью, я ни капли не страдаю от ревматизма или еще какой-нибудь немощи, положенной в моем возрасте, по крайней мере в ногах. Руки у меня, увы, уже не те, что были, но вот ноги еще держат. Мыши, которые бегают за стеной, быстрее меня, но они и всегда были быстрее. Мышь, когда ей нужно, может бегать что твой спортсмен, это уж точно. Но доктора Грена я смогла опередить.
Он постучал в дверь — не то что этот бедняга, который прибирается у меня в комнате, Джон Кейн его зовут, если только я правильно пишу его имя, а я сейчас записала его в первый раз, — и когда вошел, то я уже сидела за пустым столом.
Доктор Грен, я думаю, человек незлой, и поэтому я встретила его улыбкой. Утро выдалось очень холодным, и все вещи в комнате были покрыты морозным налетом. Все так и переливалось. На мне самой были надеты все мои четыре платья, так что я неплохо укуталась.
— Гм, гм, — сказал он. — Розанна… Гм. Как себя чувствуете, миссис Макналти?
— Очень хорошо, доктор Грен, — ответила я. — Очень любезно с вашей стороны навестить меня.
— Это моя работа, — сказал он. — У вас в комнате сегодня убирали?
— Еще нет, — ответила я. — Но Джон, наверное, вот-вот придет.
— Наверное, — согласился доктор Грен.
Затем он прошел к окну и выглянул наружу.
— Холоднее дня еще не было, — заметил он.
— Не было, — согласилась я.
— У вас все есть, что нужно?
— В основном да, — ответила я.
Затем он уселся на мою постель, так будто это была самая чистая постель во всем христианском мире, вытянул ноги и поглядел на свои ботинки. Его длинная седеющая борода заострена как топор. Борода-изгородь, борода святого. На кровати подле него лежала тарелка с остатками бобов со вчерашнего ужина.
— Пифагор, — сказал он, — верил в переселение душ и потому упреждал нас быть особенно осторожными при поедании бобов, на тот случай, если ешь душу своей бабушки.
— О! — отозвалась я.
— Так говорится у Горация, — сказал он.
— А к консервированным бобам это тоже относится?
Доктор Грен прекрасен тем, что чувство юмора у него отсутствует напрочь, но в этом-то и весь его юмор. Бесценное качество в таком месте, как это, уж поверьте.
— Итак, — повторил он, — вы чувствуете себя хорошо?
— Хорошо.
— Сколько вам уже лет, Розанна?
— Думаю, сотня.
— Не правда ли удивительно — так хорошо себя чувствовать в сто лет? — спросил он так, будто бы это в какой-то мере была и его заслуга, хотя, наверное, так и есть. В конце концов он наблюдает меня уже тридцать с лишним лет. Сам он тоже уже стареет, но еще не так стар, как я.
— Очень удивительно, доктор. Но меня многое удивляет. Меня удивляют мыши. Меня удивляют забавные зеленые лучики света, которые стучатся в это окно. Меня удивляет то, что вы навестили меня сегодня.
— Очень жаль, что мышей у вас так и не вывели.
— Мыши тут будут всегда.
— А разве Джон не ставит мышеловки?
— Ставит, но не слишком аккуратно. Мыши съедают весь сыр и преспокойно убираются восвояси, как Джесс Джеймс[6] со своим братом Фрэнком.
Правой рукой доктор Грен стянул кожу на лбу к переносице и помассировал ее. Затем он потер нос и тяжело вздохнул. В этом вздохе были слышен каждый год, который он провел в этом заведении, каждое утро его жизни тут, каждый бессмысленный разговор о мышах, лекарствах и возрасте.
— Знаете, Розанна, — сказал он, — недавно мне пришлось проверить, на каком основании все наши пациенты здесь оказались — сейчас все это вызывает большой резонанс в обществе, — так вот, я просматривал и ваши документы, и должен признаться…
Все это он произнес самым что ни на есть непринужденным тоном.
— Признаться? — подтолкнула я его.
Я знала за ним привычку вдруг молча погружаться в какие-то свои размышления.
— Ах да, простите. Гм, да, так вот. Я хотел спросить вас, Розанна, не помните ли вы случайно, при каких обстоятельствах вас сюда поместили, вы бы мне очень помогли, если помните. Я сейчас поясню, зачем мне это нужно — если до того дойдет.
Доктор Грен улыбнулся, и у меня возникло подозрение, что последняя фраза могла оказаться шуткой, но смысл ее ускользнул от меня, в частности и потому, что, как я уже сказала, шутить ему было не свойственно. Я почувствовала, что все это неспроста.
И тут я сама — не лучше него — забыла ему ответить.
— Так вы помните что-нибудь?
— Вы о том, как я сюда попала, доктор Грен?
— Да, в общем, как раз об этом.
— Нет, — ответила я, сочтя откровенное вранье лучшим ответом.
— Видите ли, — сказал он, — к несчастью, многие поколения мышей, что неудивительно, как следует обжили наши архивы в подвале, да так, что там теперь ничего не разобрать. Над вашей историей болезни, например, они потрудились весьма своеобразно. В своем нынешнем виде она не посрамит даже египетские пирамиды. Такое впечатление, что дотронься до нее, и она рассыплется в прах.
Наступило долгое молчание. Я все улыбалась и улыбалась. Я старалась представить, что он видит, когда смотрит на меня. Сморщенное лицо, такое старое, утонувшее в возрасте.
— Конечно, я вас очень хорошо знаю. За все эти годы мы с вами о многом переговорили. Теперь я жалею, что нечасто делал записи. Вы вряд ли удивитесь, узнав, как мало я записал. Я вообще не любитель записывать — наверное, не самое похвальное качество для моей работы. Иногда говорят, что от нас никакой пользы, что мы никому не помогаем. Но я надеюсь, что вам мы как сумели — помогли, несмотря на то что я делал непростительно мало записей. Я очень на это надеюсь. Я рад был узнать, что вы хорошо себя чувствуете. Мне хотелось бы думать, что вы счастливы тут.
Я улыбалась ему старой улыбкой старой женщины: будто бы я не совсем понимаю, о чем он говорит.
— Хотя видит Бог, — произнес он, выказав некоторую душевную тонкость, — тут никто не может быть счастлив.
— Я счастлива, — сказала я.
— Знаете, я вам верю, — ответил он. — Я, кажется, не знаю человека счастливее вас. Но, боюсь, мне придется снова вами заняться — в газетах сейчас столько всего пишут о людях, которые находятся в лечебницах не по медицинским показаниям, а, скажем так, по причинам социального характера — будто бы их тут…