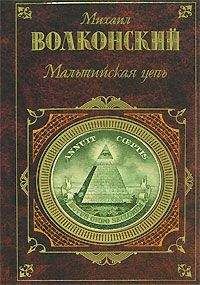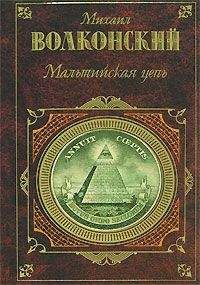– Я вам говорила, мой друг, что это ангел, ангел! – ответила Лафон, подымая взор к небу и оправляя свой тюлевый чепец.
Канних уехала из Смольного с облегченною душою.
Граф Литта получил приказание явиться во дворец к семи с половиною часам вечера, и ровно в назначенный срок вошел во внутренние покои, где оказалось весьма немного народа.
Появление вечером во дворце Литты, не имевшего придворного звания и не принадлежавшего к особам первых трех классов, возбудило невольную тревогу и перешептывания. Растопчин встретился с Литтою очень дружелюбно, Куракин ласково поклонился ему, стоявший с Куракиным какой-то вельможа, – кажется, князь Репнин, – которого Литта встречал прежде мельком и который относился к нему довольно надменно, теперь подошел первый и, сказав несколько общих слов и любезностей, вдруг задушевным голосом спросил Литту:
– А зачем государь приказал вам приехать сегодня? Наверное, по делам ордена?
– Право, не могу вам ничего сказать, – пожал плечами Литта, – я знаю не более вас.
Он действительно ничего не знал; в приказании не было сказано, зачем его требовали.
Граф Виельгорский, гофмейстер, подошел к нему и спросил: останется ли он ужинать. Виельгорский по своей должности обязан был составить список лиц, которые пожелают идти к столу.
– Я, право, не знаю… – начал Литта.
– Да это как вы хотите, – пояснил Виельгорский, – раз вы приглашены, вы имеете право остаться…
– Ну, господа, пожалуйте, – обратился князь Куракин к собравшимся.
И в глубоком молчании все направились в соседнюю комнату, где уже собралась вся царская фамилия. Ближе всех к дверям стоял император. Каждый из входивших делал ему низкий поклон, а затем отходил влево, чтобы дать место следующим.
Государь милостиво кивнул Литте, с тем же самым добрым выражением своего лица, всегда прекрасного в минуты хорошего расположения духа, какое тот знал в Гатчине.
«Да, – подумал Литта, – он не изменился, он такой же, каким и был».
Когда поклоны кончились, государь стал разговаривать то с тем, то с другим. Императрица Мария Федоровна села за партию бостона с князем Репниным, вице-канцлером Куракиным и графом Николаем Румянцевым. Она сидела на софе, государь – справа от нее, а великий князь Александр – рядом с отцом в кресле; далее великий князь Константин и прочие по чинам. Замужние великие княгини сидели по другую сторону императрицы, а великие княжны с госпожою Ливен за особым круглым столом занимались рукоделием.
Разговор вел один государь. Ему или просто отвечали, или разъясняли подробности того, о чем он спрашивал. Кто раз сел, не мог уже подняться, и это несколько тяжелое требование этикета прекращалось, лишь когда приглашали к ужину.
Стол был накрыт на небольшое число кувертов, и здесь, за этим столом, Павел Петрович явился тем же простым и любезным хозяином, каким бывал в Гатчине.
Ужин кончился. Все снова перешли в другую комнату, но здесь уже стеснения не было. Всякий говорил, с кем хотел и как хотел.
Литта, сидевший за ужином рядом с Куракиным, продолжал с ним начатый разговор о Мальтийском ордене. Он все еще не знал, зачем его призвали сюда, и решил, что это было просто знаком царской милости и внимания и что, вероятно, скоро придется откланяться и уехать. Однако, разговаривая с князем, он невольно следил глазами за государем – невольно потому, что это делали все, и он вместе с другими поддавался этому влечению.
И вдруг он увидел, что государь остановил прямо на нем свой взгляд и как бы подозвал его к себе этим взглядом.
Литта подошел к Павлу Петровичу. Государь ласково взглянул на него и, отводя его несколько в сторону, положил на его плечо руку, а затем с улыбкою проговорил:
– Я смотрю на ваш красный супервест и думаю об одном странном совпадении: красный цвет вашего ордена – защитника и поборника монархии – избран, как нарочно, цветом Французской революции.
– Может быть, это признак, что она погибает, – заметил Литта.
– Она должна погибнуть, – подхватил Павел Петрович, – должна потому, что только самодержавная власть может быть истинною и справедливою, хотя бы вследствие того только, что самой ей желать нечего… А вы, – добавил он вдруг, – кажется, любите ваш красный цвет?
– Я его ношу по установленной форме, – ответил Литта, удивляясь вопросу. – Впрочем, наш супервест очень красив…
– И красное домино тоже, – сказал Павел Петрович как бы вскользь.
«Красное домино? – подумал Литта. – Что же это, на что он намекает? Или он все знает?»
И, давно изучив характер Павла, он понял, что с ним можно говорить только прямо и откровенно, и потому сразу ответил:
– Ваше величество говорите о красном домино баронессы… Канних?
– Да, кажется, так ее фамилия. Я все знаю, мой друг! Вот видите ли, когда я раз чувствую доверие к человеку, оно может подвергаться долгим испытаниям, пока я не разуверюсь. Вас я всегда знал за достойного рыцаря, и этого довольно.
– Я думаю, и на этот раз ваше величество видели, что я остался тем же братом ордена…
– Говорю вам, я все знаю, – перебил его государь. – У Зубова в числе переданных бумаг было и ваше дело…
Литта опустил глаза и спокойно, молча ждал, что будет дальше.
– Оно было разобрано генерал-прокурором.
Литта посмотрел на Куракина, который с самым бесстрастным лицом следил теперь за ними, как будто и не подозревал ни о каком деле.
– Какая все это была гадость! – продолжал Павел Петрович, горячась и повторяя не раз приходившие в голову Литты слова. – Какая гадость!.. Ваш камердинер сознался, что подложил письма, и повторил точь-в-точь все, как было, и согласно тому, как изложено в вашей записке. Это полное доказательство вашей невиновности, в которой, впрочем, я и не сомневался. – Государь протянул Литте руку.
– Не знаю, как благодарить ваше величество, – ответил тот.
– Не благодарите, не за что! – перебил Павел Петрович (по мере того как он начинал волноваться, он говорил все отрывистей, бросая отдельные фразы). – Мы виноваты за наши порядки, что держали вас так долго в незаслуженном подозрении… Я должник ваш теперь…
– Ваше величество, я вознагражден уже возвратом вашего доверия.
– Вы лишились ваших земель в Италии? – спросил Павел Петрович, сдвинув брови, как бы не замечая слов Литты.
Граф печально опустил голову.
– Я вам даю у себя командорство с десятью тысячами рублей годового дохода. Вы представите мне свои верительные грамоты, как посол Мальтийского ордена. Для решения вопроса об Острожской ординации и для заключения конвенции о ней с вами я уже назначил князя Куракина и графа Безбородко. Эта ординация поступит в ваше ведение… Довольны вы?..
Литта тяжело вздохнул и еще ниже опустил свою красивую мужественную голову. Его осыпали милостями, делали его снова богатым человеком, но к чему все это было для него?
Павел Петрович знал причину его грусти и следил за выражением его лица, и то, что на этом лице не показалось и признака радости при получении этих вещественных благ, видимо, доставило ему еще большее удовольствие. Он снова стал весел и, снова ласково положив руку на плечо Литте, тихо спросил:
– Скажите, вы все еще любите ее?
Невольная дрожь пробежала по всему телу Литты. Он не знал, что ответить.
Государь отвел его еще дальше в сторону и еще тише заговорил с ним, так, чтобы никто не мог не только слышать, но и догадаться, о чем они говорят.
XXII. Приглашение ко двору
Графиня Браницкая приехала навестить больную сестру, у которой бывала почти каждый день.
Скавронская сидела в большом кресле с высокою спинкою, протянув свои маленькие ножки на низкую подушку бархатного табурета. Рядом на столике стояли банки и склянки с лекарствами. Няня с вечным своим чулком сидела поодаль.
– Ну, здравствуй! Как ты себя чувствуешь? Лучше? – спросила Браницкая, целуя сестру. – Ну ничего, – протянула она успокоительно, вглядываясь в бледное, похудевшее личико графини Скавронской, – обойдется, Бог даст…
Няня в это время украдкой сделала у себя на груди крестное знамение.
Браницкая, видимо, старалась подбодрить больную, и Скавронская грустно улыбнулась, как бы понимая это старание ее.
– Ах, Саша, все одно и то же! – тихо проговорила она, откладывая на столик книгу, которую читала. – Просто сил моих нет.
– Как одно и то же? – подхватила Александра Васильевна, стараясь быть веселой и развеселить хоть немного сестру. – Помилуй, новостей у нас целый короб… Ты знаешь, – заговорила она с тем оживлением, с каким обыкновенно говорят с больными или рассказывают сказку детям, – генерал-губернатор Архаров велел от имени государя, думая этим сделать ему сюрприз, выкрасить в Петербурге все ворота и даже садовые заборы полосами черной, оранжевой и белой краски, на манер казенных шлагбаумов. Государь, узнав об этом «глупом», как он сказал, приказании, ужасно рассердился, и Архаров слетел с места. С ним вместе тоже выгнали со службы полицеймейстера Чулкова за его безобразные распоряжения, вследствие которых сено страшно вздорожало. И вот на них теперь ходит преуморительная карикатура… мне обещали достать ее, я привезу тебе… Нарисовано: Архаров лежит в гробу, выкрашенном полосами, как шлагбаумы, по четырем углам горят уличные фонари нового образца, а рядом стоит в полной форме Чулков, плачет и вытирает глаза сеном… и они ужасно похожи…