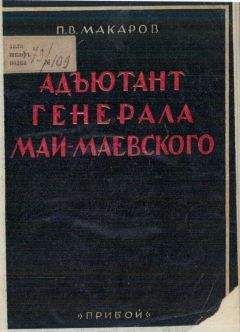Ознакомительная версия.
А ведь она отлично помнила все.
Она помнила, как она кусала рот, как закатывала глаза, как слезы сами, рекой, лились по ее щекам. Это оказалось действительно очень больно. Не больнее, чем терять девственность; не больней, чем получать пулю в ногу или руку; не больней, чем накладывать на рану, полученную казацкой шашкой, кустарные швы не у хирурга – у ангарского рыбака, шьющего порез крепкой рыболовной лесой. Тот, кто выкалывал у нее на полном белом плече древний знак «суувастик», сцепил зубы, не проронил ни слова. Окунал иглу в тушь, вонзал в сдобное женское тело. Машка корчилась, скрипела зубами. Только однажды, когда она не выдержала и взвизгнула – художник слишком далеко загнал иглу под кожу, вколол краску во вздувшуюся мышцу, – он разжал зубы и процедил: не ори, иначе свяжу тебя, как жертвенного барана, и взнуздаю. И она замолчала. И лишь всхлипывала. Как щедро плачет в жизни баба! А глаза мужчины сухи. Слезы даны женщине для того, чтобы облегчить участь свою. И для того, чтобы мужчина разжалобился, пожалел, утешил ее, а не пнул в бок, как старую собаку, сапогом.
Тот, кто выкалывал у нее на плече древний пустынный крест, окончив работу, вставил все рабочие иглы в морскую губку, плотно завинтил пузырек с тушью и, отойдя на два шага назад, обозрел сделанное. «Недурно». Зачем ты это сделал со мной, выдохнула она, зачем?! Ей казалось – над ней надругались. «Тебя по знаку „суувастик“, женщина, отличат в сужденный день».
Он вышел, забрав с собою все свои пузырьки, флаконы и иглы, и хлопнул дверью. Она тяжело повернулась на ветхом диване с торчащими, впивающимися в бок пружинами. Изогнулась. Сорвала грязную тряпку с глаз. Яростно кинула в зев жарко пылающей печи.
Номера знаменитейшей ургинской бандерши Фэнь всегда хорошо отапливались в холодные зимы, чтобы девушки не испытывали неудобств при раздевании и одевании.
Машка так и не увидела лица мастера.
И зачем он прожег черной китайской тушью у нее на плече кривой крест, она не узнала.
Сужденный день. Судный день. Ее, шалаву, Богу есть за что судить.
* * *
Атаман Трифон Семенов, правая рука барона Унгерна, цин-вана и предводителя великих освободительных войск Азии, был убит.
Он был убит не в бою, не в схватке, не при штурме крепости, не в сражении либо в единоборстве с достойным противником: его нашли мертвым в юрте у Машки, его полюбовницы.
* * *
Тихо. Двигайся совсем тихо. Если она шевельнется – застынь. Если откроет глаза, увидит тебя, закричит – быстро закрой ей рот ладонью. Хорошо, она не поставила охраны около юрты. И, кажется, она спит одна, Машка нынче отпущена, ночует у себя в юрте.
Шаг. Еще шаг. Как пахнет свечным нагаром. Долго, допоздна жгла свечу, должно быть. Или плошку с жиром. Он присел на корточки у ее изголовья. Глаза привыкали к темноте, мрак из кромешного становился туманной полутьмой. В карем плывущем тумане Осип различил Катину белокурую голову на подушке, разметавшиеся волосы, голую светящуюся руку поверх одеяла. Сильно пахло нагаром, кожей шкур, лекарственными каплями. «Должно быть, это и есть ее зелье, успокоительное, бром», – растерянно подумал Осип, протянул руку, стал шарить около ложа. Так и есть! Тесак лежал рядом с изголовьем, на лиственничном распиле, служившем вместо табурета. Отлично придумано, она клала нож рядом с собой, бедная девочка, чтобы защититься.
Он, ухватив нож, осторожно поднял руку – и тут его запястье обхватили тонкие цепкие пальцы. Пальцы вжимались в его руку все сильнее, жесточе. Вместо лица у него сделалась жаркая кровавая красная маска, стыдом налились глаза.
Он глупо сидел на корточках перед Катиной постелью, она впивалась пальцами в его запястье.
– Катерина Антоновна, я…
– Это мое. Положите на место.
– Катерина Антоновна, это я, Осип… Вы уж простите…
Он по-прежнему держал нож над ее головой. Во тьме блестели ее глаза.
– Ах, Осип.
– Как это… ваше?..
– Отдай. Не смей! Это память. Я сохраню его. Это с кухни…
Она замолчала. Он видел, как закрылись ее глаза. Он выпустил тесак, он упал на подушку рядом с ее плечом. Она прижала руку к губам. Накинула подушку на нож. Легла грудью на подушку. Выдохнула:
– Осип, останься. Мне страшно. Поговори со мной. Ты же не вор. Ты же не вор, правда?.. Ты же не против меня?.. Ты – со мной?..
Он слышал, как дрожит ее голос. Ему стало беспредельно жаль ее. Все больше она казалась ему маленькой девочкой, попавшей во взрослый тяжкий переплет, девочкой, которую надо было взять на руки, закутать, упасти от мороза и беды, утешить, укачать. Он порывисто взял в руки ее лицо. Отдернул руки, как от огня.
– Ох, что делаю, простите… Не плачьте только, не судите… Я с вами… Я вас не оставлю… Я… Да я же помогу вам!..
– Т-ш, не кричи…
– А что, Машка здесь спит али у себя?..
Она села в постели. Ее глаза снова горели в темноте, как у рыси.
– У себя… Только не вздумай… не подступай…
У него полымем горело все лицо, шея, грудь.
– Да вы что, Катерина Антоновна…
– Какая я тебе Антоновна, брось все эти реверансы…
Они шептались во мраке юрты, как дети, как заговорщики. Он, чувствуя, как дрожат колени и пот течет по вискам, сел по-татарски, согнув колени, у Катиного изголовья, не сводя с нее глаз, как с иконы. Он почувствовал скорее, чем увидел – она улыбается в темноте.
– Катерина… – Ее рука коснулась его щеки. Он поймал ее руку рукой, губами. – Катюша… А вы… вы-то сами… как про все про это думаете?.. только как перед Богом… без обмана…
– Ишь, исповедник нашелся… Все-то тебе вынь и выложь… Думаю?.. Я не думаю, Осип… Я – боюсь… Я, знаешь, кого боюсь?..
– Кого?..
Он сунулся к ней ближе. Душистая лилия ее руки снова мазнула его по щеке, снова его губы на миг прижались к бархатистой коже. «Вот они какие, барыни, коварные», – задыхаясь, подумал он. Она низко наклонилась над ним, и ее волосы коснулись его щек, обожгли, как струистые пряди огня.
– Себя…
– А тех… ну, мумий… скелетов… в той пещере… ты не боялась, хочешь сказать?..
– Боялась… Очень…
Уже две руки взмахнулись, легли ему на плечи, отдернулись. Он успел коснуться щекой нежной кисти. Живое женское тело. Нежная женщина. Вдова атамана. Ночь. Юрта. Они одни.
– Не смущайся, я б тоже боялся… Давай с тобой найдем ту пещеру…
– Так тебя… – Его губы в забытьи приблизились к кружеву сорочки на плече, коснулись топорщащихся, пахнущих духами оборок. – Тебя ж сам Унгерн обязал заниматься поисками, не правда ли?..
Его пальцы нашли ее пальцы, сплелись с ними.
– Не только меня… Еще Николу Рыбакова… и… Иуду…
При имени Иуды она вздрогнула. Выдернула пальцы из его руки.
– Да. Иуду. Я знаю.
Ее голос в ночи стал холоден и далек. Будто бы доносился с горы.
Он испугался, смутился. Тьма колыхалась вокруг них плотным пологом.
– Иуда этот твой…
Она сжалась в комок, натянула простыню на плечи.
– Не мой.
Он понял это по-своему.
– Иуда этот ваш… Не верю я его темному лицу. Катя, Катя! – Он снова сунулся к ней. Она отодвинулась на кровати. – Не верю! Проверьте его – вы! Прощупайте! Подергайте-ка! Темный он человек, Катюшенька, темный, я-то уж чувствую, я ведь охотник, росомаху от соболя, даст Господь, отличу! Тьма за ним стоит, за вашим Иудой… тьма!..
Катя молчала. Тьма сгущалась вокруг них, молчащих. Потом она прерывисто, как после плача, вздохнула и сказала холодно, тихо, как ударила ножом:
– Осип, уходи. Иди спать.
Он встал с полу. Его колени оказались напротив лица Кати. Не помня себя, не сознавая, что делает, он резко склонился и прижался сухими жаркими табачными губами к ее затылку, к теплому пробору. Отпрянул. В мгновение оказался у двери. Отшвыривая шкуры, пробормотал: простите, простите, Катерина Антоновна.
Духи рек, где камни сверкают, как золото и серебро!
Давайте поищем пропавших и поведем беседу.
Старинная монгольская песня
За стеной юрты послышался стук копыт о мерзлую землю. Катя, в пуховом платке, обвязанном вокруг шеи, в наброшенном на плечи тырлыке, собиралась за водой. Вскинула на плечи коромысло, ведра качнулись, опахивая холодной пустотой; она вышла из юрты, низко пригнувшись в двери, – и конь резко взрыл копытами пуховый снег, заржал. Катя вскинула лицо. Иуда быстро спешился, стоял рядом с конем, положив руку на седло. Катя замерла, будто заледенела.
– Здравствуйте.
Он не двинулся от коня. Огладил его по холке. Потная конская вороная шкура отливала на солнце нефтяным радужным блеском. «Ждет, когда я подойду», – она прищурила глаза, еле удерживая закипавшие слезы.
– Здравствуйте, Катерина Антоновна. Что бледная? Степной воздух не румянит? Не надумали уезжать отсюда, от нас, грешных?
– А куда? – Пустые ведра колыхал ветер. Рука лежала на коромысле, вздрагивала. – На Запад? Большевики убьют меня тут же, вдову белого атамана. На Восток?.. Во Владивосток, в Харбин?.. В Харбине, в Шанхае много русских эмигрантов, да… Я бы уехала в Америку. Америка – земля будущего.
Ознакомительная версия.