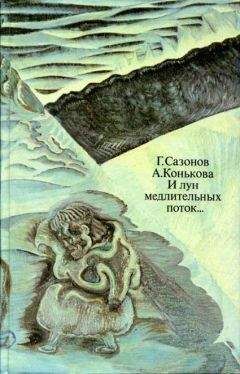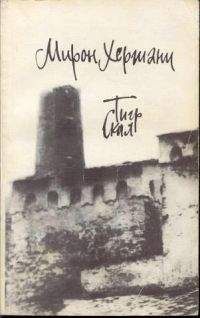— Тетушка Околь! — порывисто обнимает ее Саннэ. — Милая тетушка Околь! Прибежала к тебе за добрым советом. Гляди! — Из берестяной пайвы она вынимает легкую шапку, собранную из перьев селезней, украшенную крыльями куличков и трясогузок.
— О, красиво! — восклицает Околь. — Как весеннее озерцо…
— А вот из выдры, гляди! — радуется Саннэ. — А из бурундучков не получилось, скажи?
— Почему же? — разглядывает ее работу Околь. — Только ты эту шкурку поставь здесь, а хвостиками укрась края. А если впереди опушить куницей? Смотри! Али соболем?
— У меня не осталось ни одной собольей шкурки, даже лапки не осталось…
— Найдем! — раскрыла Околь берестяные коробочки, туески, замшевые сумки и достала разноцветные лоскутки сукна, мелкие мотки шерсти и обрезки мехов. — Вот гляди, Саннэ, тут все можно подобрать… Нужно песню играть, Саннэ, нужно зазывать узор, чтобы он не испугался, а прилег как надо. Так учила меня Журавлиный Крик.
И светлым, глубоким, просторным голосом Околь запела:
Пусть чуткие, гибкие пальцы
Вышьют искристый и светлый узор…
Тихо, как заклинание, начинает Околь. Она словно уговаривала руки свои слушаться зрячее сердце, нитку слушаться иголку, а память — прошлое. На песню из юрты вышел Тимофей с дочерью, закурил трубку, задумчиво снял со стены семиструнный «лебедь» — санквалтап.
Чтобы песни, сказки старинные
Достойное место в узоре нашли…
Звонкий, как оживший ручеек, голос Саннэ вплетается в узор, погружается в рокот семиструнного «лебедя».
И глазки зверей оживить
Звонкой россыпью ярких серебряных бус!
Далеко и высоко поднимаются четыре голоса — Околь, дочки ее, девушки Саннэ и священного семиструнного «лебедя».
Но не ради узоров прибегала Саннэ Лозьвина из Сам-Павыла в Евру. Словно нечаянно встречала она Сандро, сына Тимофея и Околь, а тот ждал ее, сгорая от нетерпения. У околицы в теплом сосняке встречал ее Сандро, и каждый раз они долго бродили по запутанным лесным тропам. О чем говорили, о чем молчали они, знают только тропы, дремучий ельник да пронизанный солнцем березняк, бородатый ворон на высокой лиственнице.
В непуганой густоте трав притаилась таинственная жизнь, она была велика и многолика, неистребимо звонка, в наплывающем запахе цветов раздавался тихий шелест, тихое струение. Травы звучали неведомой музыкой. Но Сандро и Саннэ слушали не ее и не ветер, что раздувал зеленую накипь берез и, озолоченный, голубовато-зелеными волнами переливался в сосняки, — они слушали то, что вошло в них, слушали свое томление, свою необъятность. Касаясь друг друга, они слушали и явственно ощущали горячий, гулкий ток крови и боялись, что все это рухнет, расколется, обрушится с грохотом в темную пропасть. Они казались друг другу бессмертными и поднимались над землей, над лесом, над рекой и озерами.
— Саннэ! — кричал Сандро.
— Сандро! — отвечала Саннэ.
— Сан-н-э-э! — ударялось в сосны.
— Санд-ро-о-о! — шептала Саннэ. — Сандро… ты… ты… Неужто все это нам, Сандро?
— Саннэ… нэ! Кто ты, Саннэ? — спрашивает юноша.
— Я — это ты… и больше ты, чем я, — отвечает девушка.
Березы выпрыгнули из реки, наступали на взгорок, как будто легкий туман. Потом туман сгустился до молочного, жемчужного мерцания и распахнулся уже березняком, облитым солнечным светом. Он не колыхался, и склоненные ветви вслушивались в неторопливый переговор корней, над которыми, раскинув руки, покоилась юность.
— А я — ты! — заторопился Сандро. — Ты — Небо, я — Земля.
Река плещет у ног, и в ее сердцевине они ощущают упругую, неодолимую силу. Темно-зеленая вода слегка покачивается у теплого солнечного песка, а глубже она остается холодной, таит на быстрине несогретое свое тело, а у песков она нежится, лениво и плотно плещет волной, словно пошлепывает ладошками. Нежится река, переливается в слепящих бликах, вытягивает на быстрину гибкое, упругое тело свое.
— Ты — река! — поднимает на руки Сандро золотоволосую Саннэ. — Ты похожа на мою мать, Саннэ. У тебя золотые волосы? — удивляется Сандро.
— Это от солнца, — вздыхает Саннэ. — И от радости…
— Ты станешь моей женой? — притронулся Сандро к тугой груди девушки. — Я стану беречь тебя, Саннэ!
Саннэ тряхнула золотыми волосами и, затаив дыхание, спрятала счастливое лицо на груди Сандро…
— Тимофей, ты не хотел бы взять в дом Саннэ? — спросила мужа Околь. — Такая красивая, нежная и сильная девушка. Она ведь… Она ведь не ко мне ходит, Тимофей.
— А к кому же? — Тимофей выстругивал топором лопастное весло. — К Сандро, что ли? — удивился он. — Да неужто?!
— Его она… Для него она, — заторопилась Околь. — Друг для друга они рождены. Ты слышишь меня, муж мой?
— Рано ему еще, — нахмурился Тимофей. — Пусть еще зиму поохотится. Да пару коней надо прикупить. Я же, Околь, опять волостным выбран. Опять в волость надолго уйду. А кто рыбу добудет? Нет, давай погодим еще зиму…
— Годить уже поздно, — возразила Околь. — Девушка созрела. Родители могут другому отдать. Тимофей, через зиму будет поздно, — она так просила мужа, в ее голосе было столько мольбы, что Тимофей не выдержал:
— Ладно, — решил он. — Сдам в волости ясак, вернусь и схожу к родителям Саннэ.
— Торопись, муж мой! Чует недоброе мое сердце!
Не успела Околь, не успел Тимофей. Леська-Щысь — Леська-Волк опередил их.
2
К северу от Евры, на всхолмленной равнине, среди болот и озер, за Шаимским туманом, раскинулась Тур-Павыл — Озерная деревня. На солнечном взгорке, на крутом берегу озера, поднимались жилища вата хума — богатого торговца Леськи. Высокая, просторная юрта-изба из нескольких комнат и три избы-пристроя поменьше, три крепких амбара из литых лиственниц и сарай в глубине крытого двора — все это, окруженное высоким забором, принадлежало Леське и его дряхлой матери, которая позабыла, сколько лет она обитает на земле. Тесовые ворота медленно, скрипуче раскрывались, чтобы впустить груженые возы и всадников на взмыленных конях.
Что делается там, в избах и амбарах, сельчане знали мало, потому что Леська-Волк подбирал или глухонемых работников, или таких, что крепко держали язык за зубами. Но жизнь свою не спрячешь, и за долгие годы люди узнали, что Леська — человек с черным сердцем.
Не было в округе человека богаче, чем Леська, — владел он многими паями на озерах и Конде, скупал и забирал за долги рыбные и охотничьи угодья, скот, коней и пушнину. А с тех пор как ушел Пагулев на Иртыш, свернул в этих местах свою торговлю, Леська и вовсе хозяином себя почувствовал. С двумя-тремя работниками верхом на лошадях врывался он в какую-нибудь деревушку или поднимался к ней по реке на лодке, находил должника, улыбаясь, подходил и, ничего не сказав, лупил тяжелой плеткой из бычьей кожи.
В прежние времена такого, наверно, не стерпели бы — ведь не был Леська ни князьком, ни старейшиной. А теперь терпели… Теперь и сам князек Сатыга — сын того, что заставлял когда-то евринцев ковырять лопатами луг, — водил с Леськой дружбу. А может, с Леськиными деньгами?..
Боялись люди Леську: за его спиной стояли скорые на расправу подручные. Леська брал в работники и беглых каторжных, а тем и своя-то жизнь не больно дорога, чего там про чужую говорить. Боялись еще и потому, что не походил Леська обликом на других людей.
Роста он был короткого, но широкоплечий, крепкий такой, сильный. На толстой шее громадная, словно камень, голова. Туловище как обрубок, на коротких кривых ногах. Словно прогнулись ноги под тяжестью широкого, выпяченного зада, а из плечей высовывались короткопалые толстые руки. Они на плечах бугрились нечеловеческой силой. На плоском круглом, как лепешка, лице светились узкие, словно лезвие ножа, пронзительно-жесткие глаза. Часто их не было видно, словно то были трещины на сосновой коре, — прикрывал он их, чтобы не вспугнуть нужного человека, а взгляд все равно ощущался, как холодное и острое прикосновение. И еще пугало: из широкого рта Леськи, не давая ему полностью закрыться, торчал длинный лишний зуб, что нарастал над верхним резцом.
Вот за этот лишний зуб Леську и прозвали Щысь — Волк. И хотя его челюсти были пусты и дуплисты, хотя он потерял уже дюжину зубов, лишний тот зуб, пожелтевший от табака и старости, разваливал губы и грозил изо рта.
Страшно было смотреть в плоское, длинноротое, клыкастое лицо Леськи.
Леська знал, что он страшен. Знал, что пугает людей, наводит страх, и, видя то, еще более стервенел и упивался своим могуществом.
— Я такой, — шепчет он по ночам. — Меня родили таким.
Отец Леськи, крепкий хозяин, скупщик пушнины и владелец небольшой лавчонки, крупный ростом и голосом, не мог без отвращения смотреть на сына-урода. Он казался отцу порождением злой, нечистой силы, и он боялся сына, его несгибаемого волчьего взгляда. Отец выгнал из дома мать Леськи, поселил их с сыном в небольшой избушке, рядом с конюшней, и выносил им остатки еды — обглоданные кости, рыбьи головы. Он ждал их смерти во время оспы — Леська выжил. Он ждал, что тот ослепнет от трахомы, — Леська выжил. Леська болел всем, что носил в себе черный ветер, что несла в себе заморная река, но наперекор всему был жив. И мать возненавидела Леську: красивой она была и любила отца, но вот пришлось жить собакой.