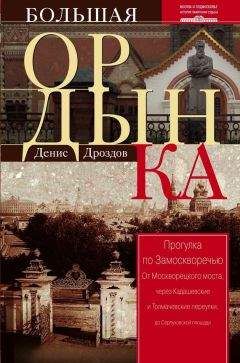– Там и впрямь теснота была, государыня. Мы с матушкой на постели вдвоем, а фрейлины на полу, на войлоках, вповалку. И у тетеньки Прасковьи через спальню проходили. И у бабиньки-царицы танцевали – она с постели глядела, – как ассамблеи собирались.
– Ассамблеи собирались! Танцевали до полуночи! Что ж не спросишь, каково тетка твоя в Митаве царствовала, в какой горенке ютилась, не то что ассамблей не знала, не ведала, что на другой день на стол ставить, какие башмаки надеть: старые поизносились, на новые денег взять неоткуда. Башмачник последний и тот в долг не верил: чем отдавать будешь? Подачками, слышь ты, я – родная внучка великого государя Алексея Михайловича – подачками от блаженной памяти величества из-под солдатской телеги Екатерины I жила. Что по милости своей пришлет, то и ладно, на том и спасибо. Да еще письма пиши, благодари, кланяйся, о здоровьечке драгоценном справляйся, каково оно после обозных телег – не надорвалось ли, не беспокоит.
– Ничего мне не надо… я б обноски… в Измайлово бы мне…
– Не будет тебе Измайлова, не будет. Сама жить в нем стану, коли охота придет! Сама во всех горницах, где войлока тухлого мне на полу не нашлось! И рож постных видеть там не желаю, а твою меньше всех. Молчальница, смиренница, а вишь как за себя вступилась! С кем говорить осмелилась, Анна свет Леопольдовна? С самодержицей Всероссийской? Вон, подлая, чтоб духу твоего здесь не было, вон!
…Матвеев подает прошение в Канцелярию от строений. Огромное колесо бюрократической машины медленно, нехотя приходит в движение. Нужны „пробы трудов“, нужны отзывы, много отзывов, отовсюду и ото всех. Наконец он получает право на самостоятельную работу. Но все это требует времени, усилий, обрекает на горькую нужду. Заслуженное за прожитые в Голландии годы жалованье остается невыплаченным. Канцелярия от строений не спешит с назначением оклада. Матвеев безнадежно повторяет в прошениях, что у него нет средств ни на поизносившуюся одежду, ни на еду.
Никаких работ, кроме заказных, художники тех лет не знали, и трудно себе представить, чтобы Матвеев, да еще при полном безденежье, решился начать картину с себя – непозволительная, ничем не оправданная роскошь. Что ж, в документах об автопортрете действительно не было ни слова.
…Отступившее глубоко в амбразуру окно архивного хранения казалось совсем маленьким, ненастоящим. На встававшей перед ним стене былого Синода солнечные блики сбивчиво и непонятно чертили свои очень спешные сигналы. Временами наступала глуховатая городская тишина с дробным эхом далеких шагов. А страницы переворачивались медленно, словно налитые свинцом прошедших лет.
К Матвееву почти сразу приходит руководство всеми живописными работами, которые вела Канцелярия. Талант и мастерство делают свое. Но это ежедневный шестнадцатичасовой труд, без отдыха, с постоянным недовольством начальства, штрафами, выговорами, страхом увольнения.
Работы для Летнего дворца – того самого, на берегу Невы, за четким и неощутимым рисунком решетки Летнего сада. Картины для Петропавловского собора – они и сейчас стоят над высоким внутренним его карнизом „гзымсом“ в непроницаемой тени свода.
Еще один документ. В январе 1730 года, чтобы приобрести хоть видимость независимости, Матвеев просит о звании живописных дел мастера – до сих пор он получал тот же оклад, что и в ученические годы в Голландии, то есть двести рублей в год.
Спустя много месяцев последовало заключение: „От его пробы довольно видеть можно, что оной Матвеев к живописанию и рисованию зело способную и склонную природу имеет и время свое небесполезно употребил… к которому его совершенству немалое вспоможение учинить может прибавление довольного и нескудного жалованья, чего он зело достоин“. Борьба с нуждой – этот бич художников современники Матвеева слишком хорошо знали и старались отвести от талантливого живописца. В июне 1731 года Матвеев получил звание мастера и оклад четыреста рублей.
И все-таки одно обстоятельство было совершенно непонятно. Для пробы мастерства от художника требовали представлять портреты с известных экзаменаторам лиц – чтоб „персона пришлась сходна“, а он не обратился к автопортрету. Почему? Ведь это бы облегчало задачу тех, кто давал отзыв, и избавляло самого Матвеева от необходимости писать новый портрет, тратя на него силы и время.
Но каковы бы ни были причины этого молчания, оно не нарушается и в последующие годы: автопортрет остался в частном наследстве художника. Что же дальше? Отказаться от поисков – или искать наследников Матвеева.
Трамвай скучно колесит по врезанным в дома улицам. В проемах ворот – очередь дворов, булыжник, зашитые чугунными плитами углы от давно забытых телег и пролеток.
Около Калинкина моста сквер – пустая площадка с жидкими гривками пыли на месте разбитого бомбой дома и коричнево-серое здание – Государственный исторический архив Ленинградской области. Здесь особенная, по-своему безотказная летопись города – рождения, венчания, смерти – на отдающих старым воском листах церковных записей и „Исповедные росписи“: раз в год все жители Российской империи должны были побывать у исповеди – обязательное условие обывательской благонадежности.
Серая, разбухшая папка с шифром. И, наконец, в Троицко-Рождественском приходе двор „ведомства Канцелярии от строений живописного дела мастера Андрея Матвеева с жителями“. Среди жителей вся матвеевская семья – художник, жена, Ирина Степановна. Под следующим годом повторение записи и последнее упоминание о художнике: в апреле 1739 года Матвеева не стало. А дальше – дальше ничего, ни дома Матвеевых, ни сберегавшихся вещей и воспоминаний, ни просто семьи.
Жестокие в своей скупости строки тех же церковно-приходских книг рассказали, что двадцатипятилетняя вдова заспешила выйти замуж. Холсты, кисти, краски Матвеева долгое время оставались в канцелярских кладовых „за неспросом“. Новый брак – новые дети. Ирина Степановна рано умерла. Немногим пережили мать старшие дети художника, да иначе отцовские вещи и не достались бы Василию Андреевичу, младшему в семье. Но вот ему-то и довелось стать историографом отца.
Итак, все, что мы знаем о двойном портрете, стало известно от сына живописца в 1808 году. Именно тогда профессор Академии художеств, один из первых историков нашего искусства, Иван Акимов начал собирать материалы для жизнеописания выдающихся художников. Акимову удалось познакомиться с Василием Матвеевым, с его слов написать первую биографию художника. Если к этому прибавились впоследствии какие-нибудь подробности, их несомненно учел другой историк искусства, Н. П. Собко, готовивший во второй половине XIX века издание словаря русских художников.
В прозрачно-тонком конверте с надписью „Андрей Матвеев“ – анекдоты, предания, фактические справки, и среди десятка переписанных рукой Собко сведений – на отдельном листке, как сигнал опасности, пометка: не доверять данным о Матвееве. Что же заставило историка насторожиться? Присыпанные песчинками торопливого почерка страницы молчали.
Петербург
Дом английского посланника. 173[?] год
Дорогая Эмилия!
Мы так долго жили здесь ожиданием свадебных торжеств принцессы Анны и не обманулись в своих ожиданиях. Трудно себе представить более пышное и живописное зрелище, которое развертывалось перед нашими глазами на протяжении целой недели. Балы сменялись обедами, застолья снова балами, а потом тянувшимися целыми часами ужинами. Но особенно красивым было само венчание.
Вообрази себе молодую пару в платьях из одинаковой серебряной ткани, сплошь покрытой бриллиантами, и в маленьких бриллиантовых коронах. У принцессы завитые волосы были разделены на четыре перевитые крупными бриллиантами косы, в которые, кроме того, было вколото множество отдельных бриллиантов. Рядом с белокурым Антоном черноволосая принцесса выглядела особенно эффектно. Их окружала толпа придворных также в одеждах, усыпанных драгоценными камнями. И вот все это богатство, весь этот поражающий воображение ритуал проделывался ради двух молодых людей, от всего сердца ненавидящих друг друга. Не подумай, что я преувеличиваю. Весь Петербург толковал о том, что свою первую брачную ночь принцесса провела в саду, бродя по аллеям и заливаясь горючими слезами. Всю неделю свадебных торжеств она, не смущаясь присутствием императрицы, которой всегда очень боится, выказывала своему супругу не только холодность, но откровенное отвращение. Императрице пришлось несколько раз в присутствии посторонних лиц делать замечания принцессе, после чего та некоторое время просто избегала принца Антона. Такое положение не могло не сказаться и на поведении принца. Заика от природы, он вообще не мог говорить, заливаясь багровой краской досады и гнева. А между тем он совсем недурен собой, говорят, проявил храбрость в военных кампаниях и достаточно ловко держится в танцевальной зале.