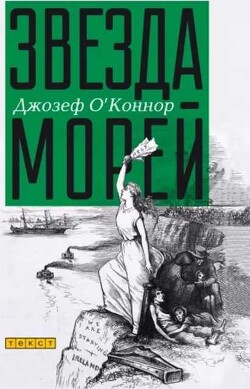Малви подобные разговоры занимали, но часто он, чтобы скоротать время, принимался противоречить Суэйлзу. Девятка — такая же цифра, как любая другая, говорил он, причем не самая полезная. Ею не сочтешь ни дни недели, ни месяцы года, ни смертные грехи, ни декады розария, ни ирландские графства, ни даже зубы в твоей глупой валлийской голове. Суэйлз фыркал, закатывал глаза. Девятка волшебная. Девятка божественная. Умножь девятку на любое другое число, сложи цифры ответа — получишь девять. (Целый день, от Вудхауса до Донкастера, Малви тщетно силился опровергнуть это утверждение, не прибегая к дробям и процентам, которые Суэйлз полагал сущим злом. «Дроби незаконнорожденные, — часто повторял он. — Бастарды внешней математики».)
У него был недурной бас (Малви диву давался, что у такого заморыша такой густой голос), и когда Суэйлз пел, казалось, будто гудит старинная виолончель. Он научил Пайеса Малви своей любимой нелепой песне-шанти, которую можно было петь как марш, и, с хрустом топча лед на проселках, они выводили ее в унисон, причем звучный голос учителя придавал робкому пискливому тенорку Малви недостающую солидность.
Ложится ночью он в постель, объятый лихорадкой,
Я-де красавец сердцеед, бормочет он украдкой,
К полуночи его свеча теплилась еле-еле,
Вдруг призрак подошел к одру, сказал:
«Смотри! Мисс Бейли!»
Последние три слова они орали во всю глотку. Между ними даже завязалось своего рода соперничество: кто яростнее прокричит. Часто Пайес, желая сделать товарищу приятное, позволял ему выиграть — исключительно из симпатии. В ледащем школьном учителе не было ни капли ярости. Он в жизни не выиграл ни одного состязания.
Пение не давало пасть духом, но с каждым днем Малви было все труднее бодриться. Нарывала искалеченная нога. Спину день ото дня ломило сильнее. Однажды утром он проснулся весь в росе, пальцы рук онемели, из носа и глаз текло. Голова отчего-то зудела. Он почесался: ногти были в крови. Пайеса Малви пронзила стрела ужаса. В волосах его кишели вши.
Суэйлз обрил его наголо; Малви заплакал от стыда и отвращения, со слезами окунул голову в ледяной ручей на обочине. Если бы существовал простой способ умереть, он непременно воспользоваться бы им. В следующие два дня он не проронил ни слова.
— Еще немного — и Лидс, — улыбался Суэйлз.
Как только они доберутся до Лидса, все будет отлично, точно они по золотой дороге пришли прямиком в рай. Йоркширец — достойнейший человек: он охотно даст собрату возможность попытать счастья. Йоркширец — хозяин своего слова, а не обманщик и невежа, как некоторые. В Лидсе и для Малви сыщется работенка.
— Может, найдем себе подружек, а, Малви, душа моя? Остепенимся. Заживем как принцы. На завтрак — вино, свинина и сладкий пирог. А на обед — королевский пудинг, клянусь Богом!
Пока же они ели все, что удавалось найти по пути: корни, листья, различные травы, кресс-салат, немногие ягоды, которые птицы оставили на почерневших кустах. Порой ели и костлявых птиц, время от времени им случалось найти тощую куропатку. Как-то утром неподалеку от Экворта они наткнулись на дохлую кошку и даже развели костер в поросшей крапивой канаве, но потом все же признались друг другу в том, о чем потихоньку думал каждый: никакой голод не заставит их сожрать кошку.
Малви изумляло, что Суэйлзу рассуждения о еде словно заменяют еду. Казалось, он сыт разговорами, но Малви, как ни странно, это не раздражало. Постепенно он даже выучился предвкушать ежесуточный пир, званый обед из слов, который готовил его спутник, пока они шагали по дорогам мимо заиндевелых полей и по скользким тропинкам вдоль каналов.
— Запеченный лебедь, Малви, и блюдо сочной жареной говядины. Стебли сельдерея и вареная спаржа. Картофелины величиной с твою ирландскую башку. Сыры, клянусь Богом, и тосканское мюскаде, а запить все это кувшином горячего сидра.
— Это только закуски, — откликался Малви. — А что же основное блюдо?
— Сейчас дойду, сейчас дойду. Придержи коней, приятель. Здоровенный кабан с яблоком в пасти. Плавает в подливе, запивать кларетом. Севильские апельсины в соусе из бренди. А подает их Елена Троянская. В одном исподнем!
— Что ж, мне этого, пожалуй, хватит. А сам-то ты что будешь, Вилли?
Так продолжалось изо дня в голодный день. Говорят, разговорами сыт не будешь, но бедному Уильяму Суэйлзу как-то удавалось насытиться разговорами. И студент его тоже этому выучился.
Порой Малви казалось, учитель так болен, что не дотянет до утра и уж точно не увидит Лидс. Он кашлял кровавой пеной. Его била такая дрожь, что он не мог удержать кружку Несмотря на жмотничал и чревовещал не переставая, словно жал. что если хоть на миг перестанет шутить, тут же умрет.
Первого марта сорок третьего года в пять часов утра они вы шли из города (илдерсома. Три часа спустя взошло солнце, позолотило заснеженные поля, и Уильям Суэйлз запел осанну. Подтолкнул локтем плетущегося Малви и указал на маячившие вдалеке черные шпили и дымовые трубы Лидса. Сегодня День святого Давида, пояснил учитель Суэйлз. Небесного покровителя Уэльса.
Весь день они брели, точно усталые солдаты, но дорога была плохая, и шагали они медленно. Один раз даже заблудились и, кажется, пошли в обратную сторону; к четырем часам начало смеркаться. Неподалеку от Каслфорда наткнулись на бродягу с причудливым именем Брамбл Пранти: тот посоветовал им быть осторожными. Здешние констебли сущие звери, сказал он. Как глянут на вас, так и отправят в исправительную тюрьму за бродяжничество, а то и, чего доброго, отмутузят: забавы у них такие. Лучше всего устроиться на ночлег в лесу. Он густой, сухой, констебли там не показываются. Двое парней с пинтой джина отменно попируют, и никакие незваные гости им не помешают. Малви решил, что бродяга клянчит выпивку, и ответил, что, к сожалению, у них ничего нет. Тот ухмыльнулся и достал из пальто глиняную флягу. «Десять шиллингов», — с жадным блеском в глазах сказал бродяга. Это было на девять шиллингов и шесть пенсов дороже обычной цены: сторговались за пару башмаков.
Когда они наконец отыскали место для бивака, уже стемнело. Лежавший на земле хворост отсырел и не желал гореть, и Суэйлз развел костер из своих рубашек, а Малви отправился за водой. Холод стоял такой, что было слышно, как трещат деревья. Когда Малви вернулся в лагерь, его трясущийся спутник швырял в огонь свои философские книги.
— Гераклит говорил, что все в этом мире состоит из огня. Поделом ему, мужеложцу полоумному.
— Вилли… это ужасно. Тебе понадобятся твои книги.
— Доктор Фауст свои сжег. Пользы они не принесли. Так хотя бы мы с тобой погреем свои праведные задницы у костра из моих книг, а? — Он заглянул в свою котомку и хохотнул. — Чего изволите, мой господин? Чосера или Шекспира?
— Шекспир будет дольше гореть.
— Эх, дяденька, — вздохнул Суэйлз, — но Чосер горит милее. — Он швырнул в костер «Кентерберийские рассказы». — Гори, ублюдочная ижица [66].
Они разделили поровну пойло, которое выменяли у бродяги, хотя Малви отдал приятелю лишний глоток. Ведь джин достался им в обмен на воскресные башмаки Суэйлза. Кроме фляги, горсти заварки и буханочки хлеба, которую Малви стянул в Дьюсбери, согреться в лютую стужу было нечем.
Постепенно они сожгли всю историю английской литературы от «Видения креста» [67] до «Эндимиона» Китса, избавив от огненной казни лишь Шекспира. (Хотя, когда джин обжег голодный желудок Суэйлза, третий акт «Короля Лира» он использовал по назначению, которое вряд ли предполагал автор. «Дуй, ветер, дуй», — горько рассмеялся он, присев на корточки. — «Пусть лопнут щеки» [68], — хохотнул в ответ Малви.)