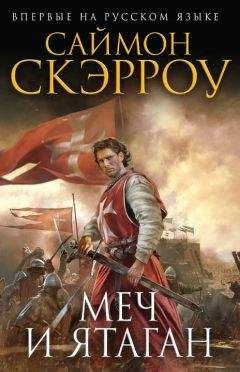Волконский стал осторожно выдувать воздух через ноздри.
Лаура вдруг сделала шаг вперед, взяла графа за руку и решительно повела в дверь, на которую граф боялся даже смотреть.
Этот волшебный сон граф Дмитрий Михайлович Волконский не мог потом забыть всю жизнь.
"Что это было?" – думал он на следующее утро, уставившись через окно на ребристые ставни борделя на противоположной стороне страда Форна.
Он ожидал рассудочной страсти без страсти: выкуп, предложенный неизвестно за какую сделку. А получилось – просто утонул в ее нежности, занемог в ее чистых и сладких порывах.
Лаура вся затопила его, так полно и наверняка, что сама попытка осмыслить захлебывалась в волнах лучезарного восторга.
Присев на кровать, он интеллигентно повернул Лауру к себе спиной и, твердо схватив обеими руками за грудь, впился гусарским поцелуем в шею. Она замерла и сидела, сложив руки на коленях.
Тяжелая волна возбуждения – от овечьей покорности девушки – подкатила под самое горло графа. Он хищно скользнул рукой Лауре на бедро и принялся подтягивать длинное платье, собирая его в гармошку. Не отрываясь от шеи, он краем глаза следил через ее плечо за змеящейся вверх материей и страстно желал увидеть нижнюю белую юбку.
Вместо нижней юбки из-под платья показалась смуглая Лаурина коленка, и граф от неожиданности зарычал. Нижней юбки не было. "Сразу!" – подумал граф.
Лаура, опустив голову, безучастно смотрела на руку графа и на свое колено. И вдруг, развернувшись, схватила Волконского за запястья. Сжала с девичьей силой и посмотрела прямо в глаза. Граф отвечал со всей лучистостью, какую мог собрать в организме. С сожалением отметил, что платье скользнуло обратно вниз… Лаура приложила обе его ладони к своим щекам…
Граф потерянно смотрел на лицо Лауры в своих ладонях, и грубый приступ желания вдруг осел на дно, как оседает кофейная гуща от сверкающего кубика льда, брошенного в чашку. Быстро поднявшись, она оперлась коленкой о край кровати и, бросив его руки, стиснула ладонями его виски. И стала целовать в края губ, в щеки, в бугры бровей, едва касаясь, неумело и трепетно.
Теперь граф сидел как неживой. Его захлестнуло волной такой несказанной нежности, что закружилась голова. И он потом долго-долго, бесконечно целовал ее всю, поначалу не давая воли рукам, боясь спугнуть резким движением…
Что это было? Приворот? Гашиш? Но отчего же сейчас, утром, без всякого гашиша, он едва сдерживает себя, чтобы не броситься в Бурмаррад, в Мтарфу, к черту на кулички, чтобы только увидеть ее, Лауру? Ночную русалку, отдавшуюся ему по велению гражданского чувства – самому нелепому из любовных велений? И где же самое естественное из мужских чувств – легкое презрение после легкой победы?
Наперекор всем законам полудикая дочь полуденной Мальты вдохнула в русского графа саму себя. И самовольно распоряжалась теперь внутри, целиком забрав душу графа в нежные и тонкие пальцы.
В десять часов вечера наемная карета кавалера Джулио Литты подъехала к парадному подъезду графа Павла Мартыновича Скавронского.
Дом был расцвечен так, что толпа народа на Миллионной еще саженей за двести щурилась от модного света полусотни газовых фонарей.
Джулио явился в черной рыцарской накидке с белоснежным шелковым мальтийским крестом на груди и маленьким Георгиевским – под шеей.
Робертино, соскочив с подножки, кинулся в подъезд, лавируя меж гостевых экипажей, и вскоре дворецкий громовым контральто доложил нараспев на всю Миллионную:
– Мальти-ийский кавале-ер Креста и Благочестия владетельный граф Джу-у-улио Ренато Литта-а-а-а!
"А- а-а!" -покатилось по Миллионной, по переулкам, отражаясь от разожженных окон огромного особняка.
Все замерло. Все, что подымалось по крыльцу, что шевелилось и копошилось в ограде возле пролеток, и даже ровный гул взаимных приветствий под порталом, в настежь распахнутых дверях, где снимались накидки, плащи и шубы, – все на секунду замерло и оборотилось.
Джулио взошел по парадным ступеням.
"Рыцарь… Мальта… рыцарь… рыцарь…" – прошелестело в сыром столичном воздухе.
Джулио был так взволнован, что сперва даже не узнал, не увидел Катю, мирно стоявшую в глубине. И направился к Павлу Мартыновичу, на переднем плане.
– Ба-атюшки! – вскрикнул Павел Мартынович, неделикатно выпуская руку князя Куракина.
Князь нахмурился.
– Сколько лет, сколько зим! – кричал Павел Мартынович.
Все задвигалось вокруг в прежнем ритме.
Катерина Васильевна втайне поразилась впечатлению, которое произвел приезд рыцаря на ясновельможный питерский свет.
В Неаполе Джулио явился рядовым посетителем посольства. Сегодня он прибыл первостатейной знаменитостью.
Александра, на правах сестры также встречавшая гостей внизу, пожала Кате руку выше локтя. И Катерина Васильевна, словно только ждала команды, невольно сделала шаг вперед.
– Бон суар, – сдержанно сказал Джулио и поцеловал сухими губами тонкую шелковую перчатку хозяйки.
Катерина Васильевна немо смотрела на рыцаря.
Тайная мысль, что красавец монах, этот огромный и властный мужчина с романтического острова Мальта, Георгиевский кавалер и герой битвы при Котке, наследный миланский герцог, о котором трещит весь Петербург, третьего дня стоял у нее под окнами, как мальчишка… Эта мысль наполнила сердце Катерины Васильевны совершенно незнакомым ощущением, близким к полному женскому счастью.
Катерина Васильевна Скавронская только теперь, в эту секунду, всей душой поняла: роман начался. Дороги назад нет, и обложка захлопнулась.
Укол женского тщеславия довершил подспудную работу души. Обложка захлопнулась с нежным звуком поцелуя в перчатку из третьей галантерейной линии Гостиного двора.
"Сегодня!" – решила она.
1. В 637 году арабы, воодушевленные пророком из Каабы, захватили Иерусалим. Однако препятствий пилигримам из христианской Европы чинить не стали. В 1020 году купцы из Амальфи и Салерно получили от калифа Египта Фатимида концессию на право построить в Иерусалиме странноприимный дом и при нем госпиталь для христианских паломников в Святую землю. Так неподалеку от Гроба Господня возникает приют с церковью Святого Иоанна Крестителя, где монахи-бенедиктинцы лечат страждущих.
К концу X века примитивные турки-сельджуки вырвались из Малой Азии на аравийские просторы. Быстро переняв ислам, они не только потеснили арабов, но стали грозить оплоту христианства на Востоке – Византии. Захватив в 1071 году Иерусалим и Сирию, они вынудили византийского императора обратиться за помощью к братьям по вере – европейским католическим монархам. Распря между православием и католичеством побледнела перед лицом общей угрозы христианству и святым местам. В 1091 году папа Урбан II призвал христианскую Европу к оружию.
С началом крестовых походов госпиталь святого Иоанна принимает первых раненых и со взятием Иерусалима когортами первого крестового похода в 1099-м получает от благодарных пациентов-рыцарей значительные суммы денег. Ректор госпиталя монах-бенедиктинец Питер Жерар пишет устав, и в 1113 году буллой от 15 февраля папа Пасхалий II признает госпитальеров как монашеский орден с августинскими обетами безбрачия, бедности, послушания и главной целью – заботой о больных и нищих. Облачение монахов – черная ряса с простым белым крестом на груди.
Преемник Жерара на посту ректора госпиталя брат Рэймонд Дюпюи называет себя магистром и включает в устав ордена, кроме лечения, защиту христианских паломников. Так орден становится военно-монашеским, а его члены называются теперь странноприимными рыцарями святого Иоанна Иерусалимского. Дюпюи также вводит белый восьмиугольный крест, ставший с тех пор эмблемой ордена и ныне известный как мальтийский. В 1248 году папа Иннокентий IV специально для рыцарей разрешает вместо монашеского клобука черную накидку поверх доспехов с белым крестом на левом плече. В 1259 году папа Александр IV меняет цвет накидки на красный, и с тех пор цвета Ордена госпитальеров остаются неизменными до наших дней.
С образованием Римского Королевства Иерусалим Орден госпитальеров, наряду с тамплиерами и Тевтонским орденом, становится сборным пунктом для всех добровольцев-христиан из Европы. С нарастанием над Иерусалимом новой мусульманской угрозы стремительно растут военная роль и престиж ордена, а вместе с ними поток новобранцев и пожертвований. Кавалерийские полки ордена в Иерусалиме ("туркополы" – то есть отражающие турок) наряду с войсками двух других орденов явились фактически первой и единственной в те времена регулярной армией Запада. Кроме того, признанное за орденом право содержать собственные вооруженные силы и вести войны в защиту христианства в сочетании с независимостью от национальных держав знаменовало явление первой наднациональной структуры, обладающей суверенитетом без наличия собственной территории.