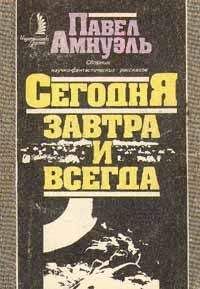— Это теперь — дело десятое. Есть печали поболее…
— С месяц будет, как приезжала с мужем. Гостили тут неделю, — продолжала надрывать сердце Салиха.
— Разговаривала ты с ней?
— Два раза сама приходила ко мне. Плакала. Тоскует. Всё время, говорит, снится Сунагат. Ничего бы, говорит, не пожалела, чтобы ещё хоть раз увидеться, поговорить. Уезжала вся в слезах.
Растерялся Сунагат, не знал, что и сказать, как себя вести. Хорошо, что нагрянули сверстники, отвлекли от мыслей о Фатиме.
В маленькую горницу битком набилась молодёжь. Но это были уже не прежние ташбатканские весельчаки и острословы. Притихли егеты, у всех на уме — война, рекрутский набор. И разговор — о том же. Завёл его Зекерия.
— Багау-бай дал зарок: «Если сына моего Нагима оставят дома, всех рекрутов угощаю медовухой. Пей, сколько влезет».
— Ясное дело — оставят. Поднесёт Багау кому нужно бочонок мёду и вернётся с белым билетом для сыночка.
— Не зря сказано: право богатого — в фармане [103], а сила — в кармане. — Это Аитбай.
— Значит, хмельной бурдой хочет откупиться от совести и перед людьми предстать благодетелем. Это богатые умеют! — поддержал беседу Сунагат. — На заводе управляющий тоже, как прижмёт его, рабочим водку выставляет. Только народ теперь чует, чем это пахнет. Во время забастовки никто капли в рот не брал.
— А что это такое — забастовка?
— Рабочие сговариваются и не выходят на работу. Завод останавливается. От этого хозяева большой убыток терпят, на тысячи рублей.
— Вот если б все и в городах, и в аулах сговорились и не пошли на войну, а? — размечтался Зекерия. — Вот было б здорово! И никакой тебе войны — воевать-то некому…
Тут пришёл десятский, спросил Самигуллу.
— На пруду он, мочало дерёт, — объяснила Салиха.
— Пусть кто-нибудь за ним сбегает, — распорядился десятский. — Повестка ему…
Разговор расстроился, парни разбрелись по домам.
Вернулся Самигулла, угрюмо выпил пару чашек чаю и опять ушёл, не сказав — куда. Вслед за ним вышел на улицу и Сунагат. Решив, что при таких обстоятельствах следует представиться властям, он отправился к старосте Гарифу.
Сунагат ожидал, что староста устроит допрос — мол, где ты, беглец, пропадал, чем занимался, — но тот ещё с весны знал об оправдании арестованных в Богоявленском рабочих и ни словом этого дела не коснулся. Лишь велел никуда из аула не отлучаться.
— Ты ведь по фамилии Аккулов? — уточнил староста.
— Да, Аккулов.
Раскрыв пухлую папку с бумагами и порывшись в них, староста заключил:
— По спискам девяносто первого года ты значишься в нашем юрте, а не в Богоявленской волости. Жди повестку здесь.
Значит, на войну…
Сунагату вдруг нестерпимо захотелось увидеть Фатиму. «Если б и не выдали её замуж, не быть бы нам вместе, — думал он. — Всё ж увидеть бы её ещё хоть раз… да уж, наверно, не доведётся. То ли вернусь с войны, то ли нет… А может быть, мне повезёт? Отец покойный, бывало, говорил: не теряй надежды, пока свои ноги носят, не на что надеяться лишь тому, кого несут другие…»
На улице его несколько раз останавливали, справляясь о здоровье, но он, погружённый в свои мысли, отвечал рассеянно. Встретился Зекерия, предупредил:
— Вечером соберёмся. Аитбаю пришла повестка и ещё многим…
Дома Салиха пожаловалась на Самигуллу:
— Как ушёл, так и пропал, будто утонул… Мастурэ, сходи-ка, поищи отца. Быстренько приведи его. Скажи — ойрэ стынет.
Мастурэ отыскала отца в доме Гибата. Там мужчины, получившие повестки, заливали горе медовухой.
Самигулла, уже немного захмелевший, увидев в дверях дочь, поднялся с нар.
— Ты куда? — удивился Гибат.
— Домой надо, шуряк меня там ждёт.
— Сунагат вернулся? Так что ж ты молчал? Никуда не пойдёшь, мы его самого сюда приведём. Апхалик-агай, сходи-ка за Сунагатом.
Мастурэ, конечно, успела домой первой.
— Там, у дяди Гибата, медовуху пьют и песни поют, — возвестила она. — Сейчас и за тобой, ага, придут…
Явился Апхалик, не принимая никаких возражений, потащил за собой Сунагата.
К вечеру уже чуть ли не весь аул был навеселе. По улице с песнями под гармошку ходила гурьба егетов-рекрутов. В иное время мулла Сафа тут же пресёк бы такое безобразие, всякие уличные затеи с гармошкой он обычно категорически запрещал. На сей раз парни нарочно прошли мимо окон злого муллы, а он даже занавеску не приподнял.
Сунагат чувствовал себя неловко. Уйти из компании старших он не мог, а с улицы доносились разудалые припевки его сверстников:
Вот и нам пришла пора
Воевать, кричать «ура».
Мы б шинели не надели,
Да эх! —
Досаждает немчура.
Словно яблочки, румяны
Нынче щёки у девчат,
Да ах! —
Нас по царскому веленью
Завтра с ними разлучат.
Мы пройдём по Белебею
И Самару навестим.
Ни докуку, ни разлуку
Мы германцу не простим.
Говорят, Уфа — на круче,
Посмотреть бы заодно.
Жить надеялись мы долго,
Да, видать, не суждено…
В доме Гибата было не повернуться: к призываемым на фронт присоединились солдаты прошлой войны. Старшие по возрасту сидели на нарах вокруг кадки с медовухой, которую разливал хозяин дома, — с плошкой в одной руке и деревянным черпаком в другой он исполнял обязанности аяксы, «стоящего на ногах». Те, кто помоложе, устроились кружком на полу, перед ними тоже стояла кадка.
Когда Сунагат пришёл сюда, его встретили приветственными возгласами, а Самигулла сполз с нар, обнял шурина и заплакал пьяными слезами.
— Шуряк! Сунагатулла! Уходим на войну, шуряк!
Один из стариков кинул в поданную ему Гибатом медовуху двугривенный и протянул плошку Сунагату:
— На-ка, мырза! Это не байский отвар хмеля, а мёд, добытый честным трудом. Выпей!
Сунагат, стоя, выпил до дна.
— Молодец, мырза! Садись к нам.
Сунагата, несмотря на его молодость, посадили на нары.
Кто-то попросил Ахмади-кураиста сыграть. Тот взял с подоконника инструмент и выдул узун кюй [104]. Гибат, подняв плошку с медовухой, запел давно знакомую Сунагату песню:
На горе, на Ельмерзяк прекрасной
Тебенюют косяки коней.
Не браните парня понапрасну,
Жизнь и так не балует парней.
— Уэшке-е-ей! [105] — вскричали пирующие.
— Хай, афарин!
Гибат протянул плошку Самигулле. Тот был уже пьян и не хотел больше пить, но от пиршественной чаши, поданной с песней, отказываться не положено. Не желаешь пить — можешь передать чашу кому-нибудь другому, только опять-таки спев. Пришлось Самигулле спеть.
Шёл я — хай — тропинкою лесною,
След повёл меня по-над рекой.
То, что предначертано судьбою,
Не сотрёшь, как пот со лба, рукой.
— Золотые слова! — добавил, допев, Самигулла и смахнул набежавшие на глаза слёзы.
Заглянул Зекерия, чтобы увести Сунагата, но его и самого не отпустили. Гибат обратился к нему с новой песней:
Если я погибну на войне,
Позаботьтесь о моём коне,
Сына-сироту не обижайте,
Приласкайте в память обо мне.
У распахнутых дверей в сенях собрались женщины. Утирая слёзы уголками платков, они терпеливо дожидались конца этого горького пира. Когда, наконец, медовуха иссякла, женщины, ласково обнимая захмелевших мужей, развели их по домам.
* * *
Наступил день отъезда рекрутов на призывной пункт в Стерлитамак. К этому времени с горных хуторов, с дальних сенокосных угодий гонцами старосты были вызваны все подлежащие призыву в армию, — главным образом, батраки Шагиахмета, Багау, Ахметши.
На аульном сходе провели сбор денег в пользу уходящих на войну, досталось им по три рубля.
Мулла Сафа с муэдзином, не разгибая спин, выписывали на узенькие полоски бумаги изречения из Корана. Женщины, зашив бумажки с изречениями в небольшие кожаные мешочки, вешали эти амулеты на шнурочках на шеи рекрутов: «Да хранит вас аллах!»
Отъезжающие потянулись к привычному месту сборов — куче брёвен у дома Ахмади-ловушки. Подъехали в длинном рыдване рекруты с Верхней улицы, среди них был и Сунагат. Появилось несколько пароконных подвод. Сыновья Багау, Ахмади и Шагиахмета сидели в отдельной подводе. Доставить их в уездный центр взялся сам Багау-бай. Перед выездом со двора он положил в телегу два бочонка с мёдом, — дескать, пользуясь случаем, продаст в городе. Но, понятное дело, он намеревался «подмазать» начальство, чтобы выхлопотать сыну и племянникам белые билеты или, на худой конец, определить их в ополчение, избавив от службы в регулярной армии. Для этой цели он прихватил с собой и деньги.
На проводы вышли и стар и мал. Староста Гариф проверил по списку, все ли получившие повестки явились. Мулла Сафа нараспев прочитал какую-то суру Корана: Ему подпевали муэдзин и старики.