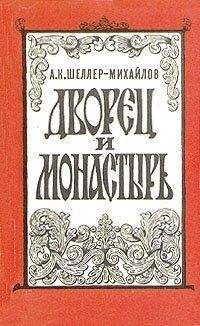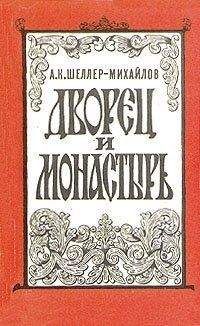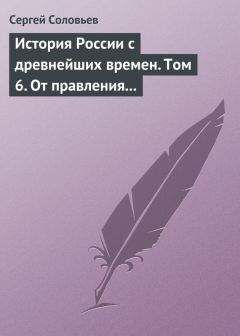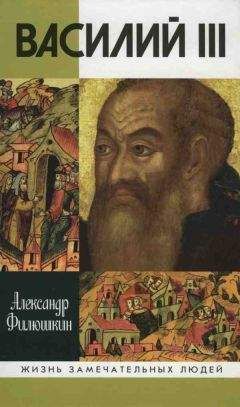– Чествовать Бога смирением, приличным человеку, – продолжал он, – и незлобием, свойственным Божеству. Властелином истинно именуется тот, кто сам собою обладать умеет, кто страстям не работает, у кого ум державствует, а не тот, кто в самозабвении возмущает собственную державу.
Царь Иван Васильевич, сжимая в руках свой посох, пришел в бешенство. Он понял, что митрополит намекает на опричнину.
– Чернец, что тебе до советов наших царских? – вскричал он, и его глаза засверкали угрозой.
И с горькой иронией, опять овладев собою, спросил:
– Или не знаешь, что меня мои же поглотить хотят?
Филипп уже слышал сотни раз эти жалобы, не придавал им значения и, не отвечая на них, сказал:
– Правда, я чернец. Но по данной мне благодати от Пресвятого и Животворящего Духа и по избранию священного собора и по твоему изволению, я пастырь церкви и заедино с тобою должен иметь попечение о благочестии и мире всего православного христианства.
Царь, точно уязвленный этими словами, снова запальчиво крикнул:
– Молчи, отче, молчи, повторяю тебе, и только благословляй нас по нашему изволению!
– Наше молчание ведет тебя, государь, к греху и всенародной гибели, – ответил митрополит, – худой кормчий губит весь корабль. Господь заповедал нам души свои полагать за други свои. Если мы последуем воле человеческой, как скажем в день пришествия Господа: "се аз и дети, яже ми еси дал?" Господь говорит во святом Евангелии: "сия есть заповедь, моя, да любите друг друга, яко же аз возлюбил вас; больше сея любве никто же имат, да кто душу свою положит задруги своя", и еще: "яко весь закон и пророци в двоих заповедях, сих висят: еже возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближняго, яко сам себе", и еще, утверждая учеников: "аще в любви моей пребудете; воистину ученицы мои будете". Таково наше мудрствование, и его мы держим крепко.
В больной душе царя Ивана Васильевича уживалась масса противоречий. Разгул, зверства и такие поступки, как служение обеден с переряженными опричниками, шли рядом с внешним благочестием вроде отбивания земных поклонов до того, что распухал лоб, или кажущегося уважения священного писания вроде постоянных ссылок на него. Услышав, что митрополит ссылается на священное писание, он сам тотчас же сослался на слова Давида, жалуясь на свою горькую долю.
– Владыко святый, – заговорил он жалобно, – воссташа на мя друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа, и ближний мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, ищущие злая мне.
Филипп был серьезен и непоколебим. Он уже слышал не раз от царя жалобы на бояр и знал цену этим жалобам.
– Государь, – заговорил он, – отличай лукавого от правдивого, принимай добрых советников, а не ласкателей.
Он опять коснулся самого щекотливого вопроса.
– Грешно разделять единство державы. Ты поставлен судить людей в правду, а не представлять из себя мучителя. Обличи тех, кто неправо говорит перед тобою, и отсеки от себя их, как гнилые члены, а людей своих устрой в соединении. Где любовь нелицемерная, там Бог.
– Не прекословь державе нашей! – крикнул царь, выходя из терпения, и вскочил с места, стуча об пол жезлом. – Не то гнев мой постигнет тебя, или оставь свой сан!
Митрополит тоже поднялся с места и твердо ответил:
– Я не просил тебя о сане, не посылал к тебе ходатаев, никого не подкупал. Зачем сам взял меня из пустыни? Если ты думаешь попирать законы, твори, что хочешь; я не буду слабеть, когда придет время подвига.
Митрополит неспешно вышел от царя. Царь сделал гневно несколько шагов за ним с сжатыми кулаками и, точно очнувшись от помутившегося его рассудок бешенства, остановился в ту же минуту, опираясь о стол и едва переводя дух от душившей его злобы. Казалось, он был готов растерзать святителя и только придумывал способ, как погубить непокорного монаха. Его бесило теперь все в Филиппе, не одно его мнимое соединение с боярами, не одна его упорная настойчивость, но и та невозмутимая сдержанность, то полное достоинства самообладание, которые составляли такую резкую противоположность с манерами и поведением самого вечно тревожного царя Ивана Васильевича.
Еще в июле 1566 года в Москву была созвана во второй раз земская дума.
Знатнейшее духовенство, бояре, окольничие, казначеи, дьяки, дворяне первой и второй статьи, гости, купцы были созваны обсудить наши дела с Литвою: быть или не быть войне с Литвою, принявшею под свое покровительство ливонцев. Всего собралось триста семьдесят один человек. Тут были между прочим и луцкие помещики, и помещики торопецкие, и представители смоленской области, одним словом все, кого могли близко коснуться военные дела с Литвой. Вечный любимец пышных собраний, торжественных церемоний, обстановки, царь спрашивал собранных земских людей, нужно ли мириться или воевать с королем Сигизмундом. Для более удобного обсуждения вопроса все созванные были разделены на семь отделов, совещавшихся порознь. Все эти люди собрались в кремлевском государевом дворце, и он сам открыл собрание и задал вопрос:
– Как нам стоять против недруга державы нашей, короля польского, Жигмонта?
Вопрос обсуждался всесторонне, но, в сущности, все было в конце концов, как и следовало ожидать, предоставлено на волю царя. Этот собор не походил уже на первые соборы, где земцы давали самостоятельные ответы и внесли ряд новых постановлений и мер. Из всех ответов теперь был один вывод:
– Мы холопы государевы и на его государево дело готовы.
Некоторые из собравшихся точно выяснили точку зрения, с которой они смотрели на дело. Так, смоленские представители говорили:
– А мы молим о том, чтобы государева рука была высока, а мы люди не служилые, службы не знаем, ведет Бог да государь, не стоим не только за свои животы, а мы головы свои кладем за государя везде, чтобы государева рука была везде высока.
И, касаясь вопроса о Полоцке, стесненном врагами, они прибавляли:
– А село без земли как быти? Только будет около Полоцка королева-земля, и король около Полоцка городы поставит, и дороги отымет, и Полоцк стеснит.
Торопецкие же помещики заявили прямо:
– Мы за одну десятину земли полоцкого и озерищского повету головы положим, чем нам в Полоцке помирать запертым; а мы холопы его государские ныне на конях сидим, и мы за его государское дело с коня помрем…
Приговорная грамота собора закрепилась печатями, рукоприкладствами и крестным целованием участников собора. Архиепископы и епископы приложили к грамоте свои руки и подвесили к ней свои печати; архимандриты, игумены и монастырские старцы приложили к ней свои руки, но печатей не подвешивали; бояре, окольничие, приказные люди и дьяки приложили к ней свои руки и целовали крест на грамоте; остальные лица закрепили ее одним крестным целованием.
Царь послал к Сигизмунду послов, так как выборные все же советовали сперва попробовать кончить дело миром, да и сам царь желал этого, зная, как утомлена и истощена войнами земля русская. Переговоры, однако, не привели ни к каким результатам. Царь решился воевать и двинулся сам к Новгороду. Царя сопровождали Пафнутий, Пимен и Феодосий. Пимен принимал и угощал царя в Новгороде с царскою роскошью в своих владычных палатах. Построенный еще в 1432 году иноземными зодчими и новгородскими мастерами владычный двор новгородский поражал своим истинно царским великолепием. Многие палаты и сени были здесь подписаны, то есть украшены иконописью. Одна из палат была так велика, что в ней было тридцать дверей. Во всех палатах множество дорогих икон в каменьях и жемчугах и золотых и серебряных сосудов в поставцах говорили о богатстве владычной казны.
Эта поездка царя была недолга, так как царь узнал, что ливонцы хотят сделать нападение на русских с другой стороны, и решил скорее вернуться в Москву, но и в короткий срок близость таких людей, как Пафнутий и Пимен не могла не отозваться роковым образом на судьбе Филиппа. Ежедневно проскальзывали намеки на Филиппа в разговорах этих духовных лиц с царем. Угодники светской власти, честолюбивые люди, коварные доносчики, они не стеснялись ничем, чтобы возбудить царя против митрополита.
Царь вернулся в Москву мрачным. Здесь еще свирепствовали опричники. Они бегали по городу с топорами и длинными ножами, убивали, насильничали, грабили. Казалось, они хотели умышленно вызвать мятеж, чтобы совершенно залить кровью Москву. Митрополит то и дело видел перед собою плачущих людей, приносивших ему горькие жалобы на притеснителей. Его сердце разрывалось на части при виде совершающегося, но волей-неволей нужно было казаться спокойным и твердым перед паствою, утешать, ободрять, подавать надежду, не надеясь уже ни на что лучшее на земле.
– Други мои, молю вас, не сокрушайтесь. Верен Бог! Он не допустит вам быть искушаемыми сверх сил и не даст вам погибнуть до конца!