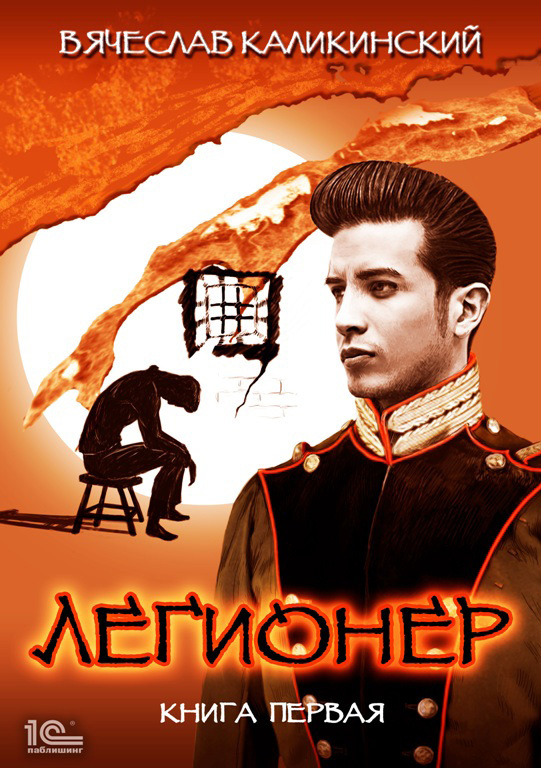последнего. Может, верила не столько благодаря наказам доктора, сколько зная удивительную жизнестойкость Карла. У неё просто не укладывалось в голове, что её супруг, прошедший весь ад сахалинской каторги и людской злобы, может спасовать перед каким-то несчастным тонким стальным перышком из проклятого письменного прибора. Это же нелепо, этого просто не может быть!
Но страшное все же случилось. Поздно ночью, в ожидании кризиса, доктор Климов настоял, чтобы она уехала с ним из Свято-Евгеньевской общины в гостиницу. Она нипочём не хотела уезжать далеко от Карла, и тогда Климов сделал ей какую-то инъекцию. Что-то тонизирующее, как он тогда объяснил. Позже Ольга Владимировна догадалась, что укол был отнюдь не тонизирующим, а, скорее, подавляющим волю, – больше своему отъезду она не противилась.
И когда позже в гостиницу явился граф Ивелич со страшным известием, она не зарыдала, не стала биться в истерике, не рвалась увидеть мертвого мужа. Она слушала слова утешения Марка Александровича, извиняющие пояснения доктора Климова – почему ЭТО случилось и почему ей никак нельзя сейчас ехать в больницу – и молчала. Доктор сделал ей ещё один укол, и она снова провалилась в небытие, позже узнав, что проспала почти полсуток. За эти полсуток в гостиницу приходили какие-то люди из похоронного бюро, портниха, снявшая с неё, спящей, мерку для пошива траурного платья – всё это она тоже узнала позже. Все вопросы панихиды и похорон решал Марк Александрович Ивелич.
Её попросили утвердить текст траурного объявления для газет. Ольга Владимировна читала текст и не понимала то, что написано на листе бумаги.
Её торопили с визированием. Дитятева, так и не поняв, что же от неё хотят, подняла на Ивелича бездумные глаза и попросила:
– Марк Александрович, может, Карл сам посмотрит и решит – как лучше?..
Тут её снова уложили спать – на этот раз без противных болезненных уколов. И она проспала до утра следующего дня. Дня похорон.
†
Ночью с 18 на 19 марта въ Петербургъ скончался
Карлъ Христофоровичъ
фонЪ – ЛАНДСБЕРГЪ
о чем жена и сынъ покойнаго извещают родныхъ и знакомыхъ. Погребенiе в Петербургъ, панихида по усопшемъ сегодня, 21 марта въ 11 съ полов. ч. дня въ Римско-Католической церкви. 2-я Портовая
В тот день она проснулась с ясной головой и острой шпилькою в сердце. Старалась не плакать – потому что рядом всё время был сын, привезённый на похороны из имения родителей Карла. И ещё одна шпилька неотвязно сидела в голове – почему ЭТО случилось? Ведь доктор Климов обещал ей, что спасёт мужа! Она непременно хотела спросить об этом у Климова, но его с утра не было ни в гостинице, ни в церкви на панихиде, ни на небольшом католическом кладбище. И никто, даже Ивелич, не мог сказать – куда подевался доктор.
Ещё её мучил вопрос: почему всё-таки нельзя открыть гроб и по-людски попрощаться с Карлом? Мимические судороги, так бывает у покойников, объясняли ей. Лучше уж не открывать гроб. Да и вам, бедная, лучше помнить его живым.
И на кладбище Ольга Владимировна заплакала лишь один раз – когда поняла, что рядом с Карлом её не похоронят. Пока она не перейдет из православия в католическую веру.
Тем не менее, оставив решение этого вопроса на потом, поминальный обед Ольга Владимировна решила устроить по православному чину. И девять дней так же планировала отвести – да только Ивелич настаивал на немедленном её отъезде.
Куда? А в Германию. Её приглашал недавно объявившийся родственник Карла, Ганс Ландсберг из Сингапура.
И вот она едет в Германию…
Ландсберг с тяжелым сердцем начал готовиться к «новому сроку каторги». На вполне добровольных началах – но все же каторги. Как и два с лишним десятка лет назад, ему предстояло начать все с самого начала – но на этот раз без семьи, без друзей. Супруга, Ольга Владимировна, покинувшая Сахалин по его настоянию незадолго до высадки на остров японского десанта, со свойственной ей самоотверженностью готова была вернуться из Петербурга, однако такая жертва казалась нынче Ландсбергу совершенно излишней. К тому же Дитятева, непрерывно хлопотавшая за мужа, была несравнимо полезней в столице, у проторенных ею дорожек в высокие петербургские кабинеты.
Следы единственного друга Ландсберга, «кумпаньона» Михайлы Карпова, затерялись еще перед войной. Когда на Сахалине объявили мобилизацию, Ландсберг сам начал агитировать Карпова уехать. Однако тот поначалу нипочем не желал бросать «кумпаньона». Ландсберг все же настоял на его отъезде.
Карпов был сугубо мирным человеком. Добравшись до Николаевска, «кумпаньон» с оказией переслал Ландсбергу весточку о своих дальнейших планах перебраться во Владивосток. Добрался ли? Этого Ландсберг не знал: на Сахалин пришла война. Потом у Карла был японский плен и невеселое возвращение на российскую землю. Ни на главпочтамте во Владивостоке, ни в главной конторе торгового дома «Кунст и Албертс» весточек Карповым оставлено не было.
Делать нечего – надо было возвращаться на остров. Почти неделю Ландсберг просидел в Публичной библиотеке Владивостока, листая подшивки газет и по крупицам собирая последнюю информацию о том, что нынче делается на Сахалине.
Остров лежал в развалинах и пепелищах. Тюрьмы и остроги опустели: солдатские караульные команды, охранявшие арестантов, были мобилизованы накануне высадки японского десанта, а надзиратели и прочие служащие тюремного ведомства, не желая оставаться в меньшинстве перед озлобленной массой арестантов, бежали. Несколько тысяч каторжников, оставшись еще до японской оккупации без присмотра и охраны, а самое главное, без казенного пропитания, разбрелись и занялись привычным им делом – грабили, убивали, воровали. Тюремные архивы вместе со статейными списками были сожжены, а каторжный террор мгновенно стал столь жестоким и безоглядным, что жалкие остатки мирного населения в страхе тоже бежали куда глаза глядят. Бросали дома, живность, последнее имущество, горько сожалея о том, что в свое время отказались от эвакуации. Многие пытались найти убежище в гиляцких стойбищах, однако коренное население неохотно разрешало чужакам жить подле себя.
Вступившим на остров японским оккупационным властям сотрудничать в вопросах «налаживания мирного порядка» оказалось не с кем. Вырвавшиеся накануне оккупации на свободу каторжники, переловив в посту на пропитание всех собак и съев в брошенных огородах всё до ботвы и сорняков, начали было возвращаться в покинутые тюрьмы. Однако японцам не было никакого дела до «отбросов общества», и кормить русских арестантов новые хозяева острова не собирались. Перемещения местного населения между населенными пунктами было запрещено, военные патрули без предупреждения открывали огонь по тем, кто в поисках пропитания пытался уйти из Александровска