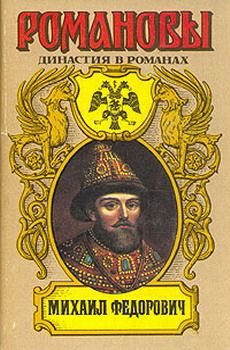Князь поклонился.
Черкасский ласково посмотрел на него и дружески сказал:
— А царь твоих заслуг не оставит! Батюшку твоего ласкает и тебя не обойдет. Прями ему, как теперь прямишь! А что батюшка?
— В забытье все. Дохтур говорит, девять дней так будет!
— Ох, грехи! Грехи! — вздохнул князь. — Ну, иди!
Знаменитый освободитель Москвы, доблестный воин, поседевший в боях, князь Пожарский ласково принял молодого Теряева.
— Добро, добро! — сказал он ему. — С таким молодцом разобьем ляха, пух полетит!
— Когда собираться укажешь?
— А чего же медлить, коли наши с голода мрут? Я уж наказал идти. Рать-то из Москвы еще в ночь ушла, а мы за нею! Простись с молодухой да с родителями, и с Богом! Я тебя подожду. Ведь я и сам царского указа жду!
— О чем?
— А и сам не знаю!
Два часа спустя они ехали полною рысью из Москвы.
— Князь, — по дороге сказал Теряев Пожарскому, — мне нужно будет на усадьбу заехать. Тут она, за Коломной. Дозволь мне вперед уехать; я тебя к утру нагоню!
— Что же, гони коня! Лишь бы ты к Смоленску довел меня, а до того твоя воля! — добродушно ответил Пожарский.
Теряев благодарно поклонился и тотчас погнал коня по знакомой дороге.
В третий раз ехал князь по узкой тропинке к заброшенной мельнице, и опять новые чувства волновали его. Словно одетые саваном стояли деревья, покрытые снегом, и как костлявые руки тянули свои голые, почерневшие ветви. Вместо пения птиц и приветливого шуршания листвы гудел унылый ветер и где-то выл волк. Солнце, одетое туманом, тускло светило на снежные сугробы.
И вся жизнь показалась князю одним ясным днем. Тогда все было: и любовь, и счастье, и вера в победу. Дунули холодные ветры — и все застудило, замело, и весенний день обратился в холодный зимний. Любовь? Одним ударом ее вырвали у него из сердца вместе с верою!.. И так вот странно в его уме смешивались мысли о своем разбитом счастье и о гибели родных воинов под Смоленском.
Наконец он увидел мельницу. Маленький домик был весь занесен снегом, настежь раскрытые ворота говорили о запустении. Свила ласточка теплое гнездышко, а злые люди разорили, разметали его. Князь тяжело перевел дух и въехал во двор. Кругом было тихо. Теряев привязал коня у колодца и твердым шагом вошел в домик. Все кругом носило следы разгрома. Князь мгновенье постоял, прижимая руки к сердцу, потом оправился и стал подыматься в Людмилину светелку. Страшно было его лицо в эти минуты!.. На площадке у двери он остановился, потому что до него донесся разговор.
— Отпусти! — произнес хриплый голос. — У меня казна богатая. Я тыщу дам!.. Две… пять дам!..
— Чего пустое болтаешь? — ответил другой, в котором князь признал голос Мирона. — Говорю тебе, с князем разговор веди. Я бы тебе, псу, очи вынул, а потом живьем изжарил, как матку мою. Душа твоя подлая! Пес! Татарин того не сделает, что ты!
— Меня самого на дыбу тянули.
— Мало тянули, окаянного!
— Руку вывернули… ай!
Князь открыл дверь и переступил порог. Ахлопьев лежал на полу со связанными ногами и руками, Мирон сидел на низенькой скамейке подле его головы. При возгласе Ахлопьева он поднял голову, вскочил на ноги и поклонился князю.
— Спасибо тебе, Миронушка! — ответил князь и, остановившись, стал смотреть на Ахлопьева.
Очевидно, было что-то ужасное в его пристальном взгляде, потому что Ахлопьев сперва хотел было говорить, но смолк на полуслове и стал извиваться на полу как в судорогах.
— Эх, Мироша! — сказал, вдруг очнувшись, князь. — Хотел я душеньку свою отвести, вдоволь помучить пса этого, чтобы почувствовал он, как издыхать будет, да судьба не судила: надо спешно рать нагонять. Крюк-то у тебя?
— Привез, князь!
— И веревка есть? Ну, добро! Приладь-ка тут, как я наказывал тебе!
— Сейчас прилажу, князь!
Мирон быстро вышел, а князь сел, закрыл лицо руками и словно забыл о купце из Коломны.
— Сюда? — спросил вдруг вернувшийся Мирон.
Князь очнулся.
— Сюда! — сказал он.
Мирон придвинул табуретку под среднюю балку и стал прилаживать веревку, на конце которой был привязан острый толстый крюк.
— Вот, вот! Пониже малость! так! — тихим голосом говорил Теряев.
Ахлопьев смотрел над собою расширенными от ужаса глазами и, вскрикнув, потерял сознание. Он пришел в себя от грубого толчка Мирона. Последний, ухватив его за шиворот, посадил на пол.
— Слепи! — приказал князь.
Ахлопьев с воем замотал головою, но острый нож Мирона сверкнул и врезался в его глаз. Ахлопьев закричал нечеловеческим голосом и замер. Он очнулся вторично от нестерпимой боли. Мирон поднял его, а князь, взрезав ему бок, спокойно поддевал крюк под ребро. Ахлопьев снова закричал, поминутно теряя сознание и приходя в себя. Его тело судорожно корчилось над полом.
— Так ладно! — с усмешкой сказал князь. — Попомни Людмилу, пес!.. Идем, Мирон!
— Пить! — прохрипел Ахлопьев, но страшный мститель уже ушел.
На дворе князь приказал поджечь все постройки, причем произнес:
— Ее теремок я сам подпалю!
Прошло полчаса. С испуганным криком поднялись вороны с соседних деревьев и закружились в воздухе. Просека озарилась заревом пожара… Князь и Мирон спешно погнали коней.
— Без памяти будет, вражий сын, пока огонь до него доберется, — сказал Мирон.
Князь кивнул.
— Очей вынимать не надо было.
Они догнали князя Пожарского всего в пяти верстах за усадьбою.
— Справил дело? — спросил князь.
— Справил, — коротко ответил Теряев. Князь оглянулся на него.
— Что с тобою? Ой, да на тебе кровь! Кажись, ты что-то недоброе сделал?
Теряев тихо покачал головою.
— Святое дело! А что крови касается, так скажу тебе, князь: змею я убил!
— Змею? Зимою? Очнись, князь! Скажи, что сделал?
— Ворога извел, — прошептал Теряев. Пожарский не решился расспрашивать его дальше.
Они ехали молча. В полуверсте от лих двигалась рать.
Так они шли два дня. На третий день Пожарский вдруг сдержал коня и сказал Теряеву:
— Глянь-ка, князь, никак рать движется?
Теряев всмотрелся вдаль. Какая-то темная масса, словно туча, чернелась на горизонте.
— Есть что-то, — ответил он, — только не рать. Солнце гляди как светит. Что-нибудь да блеснуло бы.
— Возьми-ка ты молодцов десять да съезди разузнай! — приказал Пожарский.
Теряев повернул коня и подскакал к войску. В авангарде двигалась легкая конница. Он подозвал к себе Эхе и велел ему ехать с собою.
— Куда же ты вдвоем? — окликнул его Пожарский.
— Нам сподручнее! — ответил князь и пустил коня.
Странная туча подвигалась на них. Показались очертания коней, человечьи фигуры.
— Князь, — воскликнул Эхе, — да это наши!
Сердце Теряева упало. Он уже чуял смутно, что это смоленское войско. Они ударили коней и помчались вихрем.
Ближе, ближе… так и есть! Громадной массою, без порядка, теснясь и толкаясь, оборванные, худые как скелеты, с закутанными в разное тряпье головами и ногами, шли русские воины, более похожие на бродяг, чем на ратников. Впереди этого сброда верхом на конях ехали боярин Шеин с Измайловым и его сыном, князь Прозоровский, Ляпунов, Лесли, Дамм и Матиссон. Увидев скачущих всадников, они на миг придержали коней. Теряев поравнялся с ними и вместо поклона скорбно всплеснул руками.
— А я с помощью! — воскликнул он. Шеин покачал головою.
— Поздно!
— Что сказать воеводе?
— А кто с тобою?
— Князь Дмитрий Михайлович Пожарский! — Шеин тяжело вздохнул.
— Скажи, что просил я пропуска у короля Владислава, сдал весь обоз, оружие, зелье, пушки и домой веду остатки рати. Во всем царю отчитаюсь да патриарху!
— Помер патриарх, — глухо сказал Теряев.
Шеин всплеснул руками.
— Помер? — воскликнул он. Смертельная бледность покрыла его лицо, но он успел совладать с собою. Усмешка искривила его губы, и он сказал Измайлову. — Ну, теперь, Артемий Васильевич, конец нам!
Теряев вернулся к князю Пожарскому и донес про все, что видел. Князь тяжело вздохнул.
— А знаешь, что мне в грамоте наказано? — спросил он Теряева. — Объявить опалу Измайлову и Шеину и взять их под стражу!
— Вороги изведут его! — воскликнул Теряев.
— Про то не знаю!
Пожарский сел на коня, окружил себя старшими начальниками до сотника и тронулся навстречу разбитому войску. При его приближении Шеин, Прозоровский и прочие сошли с коней и ждали его стоя.
Пожарский слез с коня и дружески поздоровался со всеми.
— Жалею, Михайло Борисович, что не победителем встречаю тебя! — сказал он.
— Э, князь, воинское счастье изменчиво! — ответил Шеин.
— Сколько людей с тобою? — спросил Пожарский.
Шеин побледнел.
— У ляхов две тысячи больными оставил, а со мною восемь тысяч!