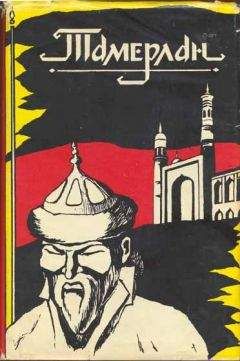Дагал шутливо подкинул на ладони заскорузлую плоскую тряпочку, содержавшую ухо каршинца. Ухо, некогда внимавшее колыбельным песенкам, соловьиным свистам, шепотам милых красоток, громоподобным воинским кличам, мольбам поверженных врагов и воплям пленниц, ухо воина, личное ухо Зайца, стало вдруг собственностью десятника Дагала, и он шутливо подкидывал его на ладони, словно прицениваясь, чего оно теперь стоит, это его имущество.
Заяц замер: в новых руках это ухо казалось ему намного дальше, чем прежде. Втайне он надеялся, что, выиграв у него, набрав в разных играх вдесятеро больше, чем можно запросить за ухо, Милостивец смилостивится в возвратит ухо природному хозяину, но теперь, в руках Дагала, этот выигрыш оказался наравне с любой вещицей, кидаемой на кон, и он вправе за нее спросить, сколько бы ни взбрело в голову.
В довершение позора, зрители, дотоле молча толпившиеся вокруг, теперь обрели голоса и перешучивались насчет Зайца. Что-то кричали ему такое срамное и обидное, что и понимать их не хотелось!
Ерзая на коленях по потной попоне, Заяц принимался то скрести спину, то снова щупал в поясе убогую марагскую добычу и не знал, что делать, как вдруг его язык, будто сам по себе, выговорил:
— А если б мне выкупить, почтеннейший?
— Можно. Сменяю. Стоит оно — доброго коня. Давай сменяю на коня.
— Коня?!
— И не из табунов. А жеребца под седлом. Возьму. Пока не приведешь, на другую цену не согласен. Все слыхали мое слово, братья?
И воины, столпившиеся вокруг, наперебой подтвердили:
— Слыхали слово!
Это был непреклонный уговор, и Заяц понял, что слово, сказанное Дагалом, — булатное слово. Надежда на отыгрыш ушла, наступило время несмываемого позора, и этому позору не будет конца. И что бы он ни свершал, какими бы подвигами ни отличился, навсегда останется позорищем и посмешищем всего войска одноухий воин, ненадежный для игры, слабый для богатой добычи. Он бы пошел на все, стал бы самым свирепым и самым отважным из всего войска, но это была бы служба Повелителю Вселенной, а ухо перекатывалось на ладони десятника. И никакой кровью, никакой отвагой не вырвать его назад из этой растопыренной ладони, шутливо перекатывающей почернелую, плоскую заветную тряпицу.
Но Заяц попытался еще раз:
— Я бы поставил на кон другое ухо.
— При всех сказано: ставь коня. Но если очень желаешь, соглашусь: ставь ухо на ухо, а коня в придачу… Коня отдашь до осени. Не повезет взять коня в битве, выкупи у тех, кому повезет, а как пойдем на зимовку, приведешь мне коня. При всех поклянешься привести, — я поверю, подожду.
— Клянусь!
— Ухо на ухо, коня в придачу?
И мертвеющими губами Заяц повторил при всех:
— Коня в придачу…
В это время кто-то догадался, что подошло время побывать у котлов. Все давно проголодались: выехали до света, а теперь солнце уже клонилось к вечеру. Прервав игру, пошли к котлам. А когда наступало время котлов, вспоминалось давнее прозвище Зайца, приставшее к нему еще в юности, в Каршинской степи, — Пузо. Он устремлялся к котлам так скоро и такими легчайшими шагами, что раньше всех возникал перед поварами и кашеварами. Но встать раньше десятника не посмел.
Дагал добыл у повара баранью кость и с завидной ловкостью, одним рывком губ, сдернул с нее начисто все мясо.
Воины, спеша угодить десятнику, одобрительно засмеялись.
Дагал же, словно совершив удалой подвиг, взял еще одну кость. Рванул мясо, но оно не поддалось. Прикусил его покрепче и еще рванул. И опять ничего не вышло.
Сердито он вернул кость повару:
— Что ж, сырым потчуешь? Сперва надо допечь, а уж тогда и воинов потчевать.
Повар оправдывался:
— Баран больно жилист. Тут не своего стада берешь, — хватаешь, что попадется. Не самаркандская баранина, не с Гиссарских лужков. Тут, бывает, и не разберешь: козел козлом, а зовется бараном.
Но Дагал, наметившись на новую кость, поучительно напомнил:
— У хорошего повара и козел слаще дыни!
— Истинно. Да ведь жилист! Что ж мне, эту кость царевичу подать, а вам ляжку?..
Пока ели, стемнело.
Кайиш-ата беспокойно поглядывал, угодят ли царевичу повара, — старику впервые выпала забота об Улугбеке, — не при повелителе, не под крылом у бабушки, а в чистой степи вся забота обо всем свалилась на одного воспитателя.
Историк затребовал было каких-то разносолов, но Кайиш-ата беззастенчиво напомнил ученому, что в степи и в походе городским прихотям потакать не будет. А Улугбек радовался грубой еде, ибо все простое, воинское напоминало ему привычки деда. И эти повадки Улугбека примиряли воспитателя с воспитанником.
Пока совсем не смерклось, постелили постели. Воины разлеглись по обе стороны ручья, поближе к прохладе.
Кайиш-ата еще раз поехал проверить караулы. Стан затихал, стала слышна какая-то степная птица, попискивавшая невдалеке, среди холмов.
Уже совсем стемнело, и дремота овладела людьми, и то там, то тут раздавались сонные вздохи, всхлипывания, всхрапы… Птица смолкла. Высоко над головой сплетались, переливаясь, созвездия. Еще попищала и вскоре опять смолкла…
И вдруг посреди стана во тьме, будто черный обвал ввалился в котловину, загрохотал топот множества коней, как бы несметный табун помчался на приутихший стан.
Улугбек еще лишь приподнимался из-под одеяла, но Кайиш-ата с одним только кинжалом в руке уже встал над просыпающимся царевичем.
К ложу Улугбека, расстеленному на земле, мчалась из тьмы волна неведомых всадников. Через мгновенье все было бы растоптано копытами, все, кто тут лежал. Один Кайиш-ата принял налет грудью в грудь, еще думая, что это чей-то табун сюда прорвался, коля кинжалом подвернувшегося коня, другого ударив плечом, и всадники, плохо видя во тьме, проскакали по краю одеял, на которые свалился с разрубленной головой воспитатель царевича, своей тяжестью валя с ног привставшего Улугбека.
Кайиш-ата растил свой опыт в битвах с большими, сильными войсками, в осадах городов, в неотразимых приступах на могущественные крепости, в искусной обороне от коварных, но известных врагов, а гнев простых людей, их неукротимая отвага, их порыв к битве не были изведаны опытным воином Тимура, и ни он сам, ни его посты, зорко стоявшие на своих местах, не поняли, откуда взялась посреди стана эта сеча во тьме.
Ибо не орлом с распростертыми крыльями, не беркутом, не по заветам хана Чингиза, а словно клинок меча вонзилась внезапная конница в самую середину стана, разбрасывая срубленные головы успевших подняться, топча лежавших.
Крепким ударом разломив стан, как спелый арбуз, надвое, с разбегу мстители проскакали до конца лощины, рубя саблями всех подвернувшихся, и возвратились на растерявшихся воинов снова, прежде чем те опомнились и кинулись к лошадям, которых спросонок и в кромешной тьме никто не успел достать. Налетев с той же скоростью, мстители отбили воинов от разбредшихся коней, нанося клинками и копьями удары, удары, удары…
Иные из нападавших напоролись на копья или не успели отбить удары мечей и сабель. Но весь стан был истоптан, истерзан, все смешалось вспышки разметанных костров, взблески сабель, и тьма, и сеча, взвизги лошадей, и храп, и хрип, и возгласы боли, и вопли торжества. Крутящаяся тьма, исполосованная, словно зарницами, искрами от ударов булата о булат, подков о камни, искрами сухой травы, занявшейся от углей…
Не в силах ничего понять в этом круговороте, Улугбек выполз из-под тяжести мертвого тела, привалившегося к нему. Вскочив, ткнулся в историка, бившегося как в ознобе. Кинувшись в сторону тишины, вывернулся из коловорота ночной сечи туда, откуда не слышно ни толчеи, ни топота, побежал.
А у ручья, где заночевал десяток Дагала, нападение пронеслось, никому не повредив: мстители прокрались в стан руслом ручья, глушившего конский топот. Выбираясь на берег, они еще лишь свыкались с тьмой и проехали, не заметив спавших воинов. Не спал только Заяц: они сговорились с десятником Дагалом метнуть поутру, сразу после первой молитвы. Даже если весь стан встанет на поход, они успели бы метнуть: бросить кости — это одно мгновенье, — а об условии договорились. В случае проигрыша Заяц отдает в этот же день последнее ухо, а осенью перед зимовкой приводит десятнику коня. Раздумья гнали прочь сон, и Заяц первым услышал странные топоты и разглядел всадников, кравшихся в стан. Он юркнул в сторону, бормоча:
— О аллах милостивый! Кто это? Кто это? Сперва осмотреться! Кто это?
К этому времени, промчавшись через весь стан, мстители мчались на стан обратно. Топот их, и лязг сабель, и толчея сечи приближались к ручью и к Зайцу.
Перескочив через ручей, Заяц смутно видел столпившихся в схватке сперва на берегу ручья, а вслед за тем среди самого русла.
Заяц отбежал, гадая, где ему безопаснее, но все еще топчась возле всадников. Так же быстро, как и появились, все поскакали куда-то в сторону и снова схватились там.