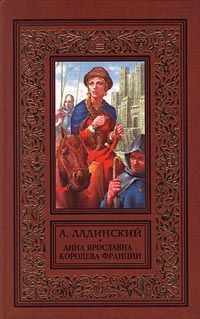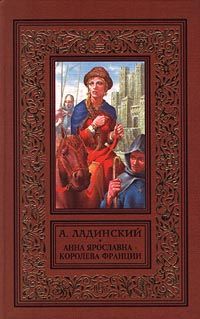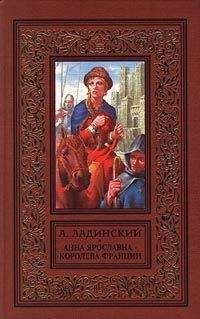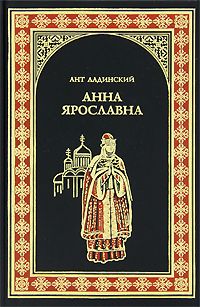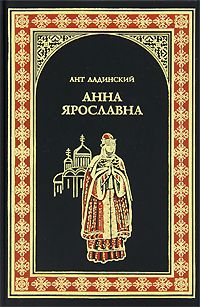– Они все такие, – поддержал его другой крестьянин, почесывая поясницу и несколько ниже.
Бертран продолжал:
– Сели играть. Первым выбросил костяшки жонглер. Двойка, тройка, шестерка. У апостола двойка и две тройки. Выиграл наш беспутный приятель. Бросили еще раз. У грешника – тройка, четверка и пятерка, а у Петра – три тройки…
Слушатели с затаенным дыханием следили за воображаемой игрой, всей душой желая выигрыша грешнику. Некоторые даже шепотом повторяли числа костяшек.
– Апостолу нужно было втянуть жонглера в игру, а кости он принес фальшивые. Вскоре у него посыпались шестерки!
– И там обманывают бедных людей! – вздохнул сидевший за пивным кувшином.
– Да! При умении кубики всегда ложились шестерками и пятерками. Бросит жонглер – в лучшем случае у него тройки и четверки, кинет апостол – шестерки! Таким образом Петр и действовал без зазрения совести. «Да ведь ты мошенничаешь, святой отец!» – не выдержал жонглер. «Как ты смеешь говорить такое наместнику Христа!» – вознегодовал ключарь рая. «А почему у тебя все время шестерки?» – «Потому, что я бросаю с молитвой, а ты сквернословишь и поминаешь дьявола». Ну, долго ли, коротко ли они играли, но в конце концов апостол выиграл все нужные ему души.
– Даже трудно поверить, что так может вести себя апостол Христов! – огорчался поселянин, сидевший за кувшином с пивом.
Жонглер повысил голос:
– Но возвращается сатана. И что же он видит? Петр сидит у него в аду, как дома, и выигрывает последнего епископа…
– Какого? – спросил один из слушателей.
– Этого… как его… – замялся рассказчик.
– Наверное, епископа Реймского Ги, что недавно помер.
– Или Турского… Тоже скончался на днях…
– Кажется, того самого, – подхватил Бертран. – Одним словом, в котле почти уже никого не осталось. Конечно, сатана рассердился и выгнал апостола вместе с жонглером. Так наш прощелыга и очутился в раю вместе с праведниками и ангелочками…
Все остались очень довольны рассказом. Кто нес жонглеру кружку пива, кто совал в руку медную монету. Ведь люди понимали, что это тоже труд – ходить без устали по дорогам в дождь и холод и забавлять бедных сервов веселыми историями.
– А есть еще рассказ про аббата, – захлебываясь от смеха, стал припоминать один из поселян, у которого нижняя челюсть вытянулась в виде башмака, – как он своего любимого осла на христианском кладбище похоронил…
– Знаю, знаю, – замахал на него обеими руками сосед, такой же лохматый, как и человек с длинным подбородком. – Аббату здорово попало за такую вольность…
– А он тогда уверил епископа, что осел ему десять червонцев в завещании отписал…
Крестьяне наперебой рассказывали друг другу:
– Тогда другое дело. Какой достойный осел! Какой умница! Его надо в святцы записать!
– Хорони его сколько хочешь!
Оба смеялись до слез, забыв все свои невзгоды, а Бертран ругал их в душе, что болтуны из-под носа утащили у него такой выигрышный рассказ.
– Ну, если вам известна история с похоронами осла на кладбище, то в таком случае спою песенку про бедного мужика, которого не хотели пускать в рай…
Бертран старательно настроил виелу, склоняя к струнам красивое и вдохновенное лицо, взял смычок и наиграл ритурнель. Потом высоким голосом пропел два первых стиха:
Был один крестьянин хвор,
Утром в пятницу помер…
Еще несколько скрипучих звуков виелы – и снова стихи:
Но архангел в этот час
Не продрал опухших глаз.
Дрыхал он без задних ног,
Душу в рай нести не мог…
В это самое мгновение кривая дверь, певшая на крюках не хуже виелы, отворилась, и на пороге показался богато одетый человек, и не кто иной, как сам местный сеньор, граф Рауль де Валуа. На нем было приличествующее его званию длинное одеяние темно-зеленого цвета и меховая шапка; на желтых сапогах виднелись шпоры, а в руках он держал плеть. На груди у графа поблескивала золотая цепочка, на которой висела греческая монета. Из-за его спины выглядывала широкая рожа оруженосца.
Бертран не видел вошедшего и повторил:
Дрыхал он без задних ног,
Душу в рай нести не мог…
Но появление в харчевне сеньора вызвало явное замешательство. Крестьяне, сидевшие поближе к двери, неуклюже подняли зады со скамеек и стащили с голов шляпы и колпаки, похожие на вороньи гнезда. Пение умолкло, музыка прекратилась. Посреди харчевни, с кувшином вина в одной руке и кружкой в другой, кабатчик высоко поднял ногу, как бы намереваясь сделать еще один шаг, но не двигался с места. Он повернул голову к сеньору и раскрыл рот не то от изумления, не то от страха.
Граф некоторое время молча озирал сборище поселян, подбоченясь и презрительно кривя губы. Потом изрек:
– Так, так! Пьянчужки! Вместо того чтобы трудиться в поте лица, как предписано в священном писании, они хлещут пиво, а потом будут уверять, что им нечем уплатить оброк.
– Милостивый сеньор, – начал было трактирщик, – ведь сегодня праздник и…
– Молчи, болван, – гневно оборвал его граф. – Сам знаю, что наступил воскресный день, так как присутствовал на мессе. Но трудиться можно и в воскресенье. А за твои дерзкие слова пришлешь мне в замок десять модиев вина…
Кабатчик едва не выронил из рук кувшин на земляной пол.
– А это что за человек? – спросил сеньор, показывая плеткой на жонглера. – Откуда он появился в моих владениях?
Бертран бесстрашно приблизился и, сняв учтиво шляпу, сказал:
– Я жонглер Бертран…
Граф прервал его представление коротким мановением руки.
– Жонглер? Отлично. Что эти олухи понимают в твоих песнях? Лучше приходи в мой замок, и у тебя будет каждый день сколько угодно мяса и вина.
– А денарии? – спросил Бертран, поблескивая зубами.
– Будут и денарии, – ответил граф.
Так случилось, что Бертран поселился в замке Мондидье. Но он не знал тогда, чем все это кончится.
Вот каким образом Бертран очутился в замке Мондидье и в тот вечер приехал с графом Раулем в санлисский дворец, чтобы развлекать скучающую королеву. Пока же сеньор сидел за королевским столом, он угощался в помещении для оруженосцев, уже пронюхавших о его шашнях с полногрудой Алиенор. Никто их вместе не видел, но эти шалопаи отпускали такие шуточки, от которых у жонглера мурашки бегали по спине. Он знал, что от него только мокрое место останется, если слухи о чем-нибудь дойдут до ушей графа.
Между тем наверху шла приятная беседа. Поговорили и о сыре, поданном на деревянной доске. Этот продукт доставляли к королевскому столу из Бри, где произрастают ароматные травы, придающие особый привкус молоку, и живут опытные сыровары. Рауль тоже нашел, что такую пищу приятно запивать красным вином.
После ужина, когда все насытились, сеньор просил у королевы разрешения позвать менестреля, как для пущей важности называли Бертрана в Мондидье.
Анна увидела довольно красивого юношу, но со столь худыми ногами, что его тувии выпятились на коленях, как пузыри. В руках он держал виелу и смычок. По всему было видно, что молодой человек готов развлекать благородных слушателей, но старался сохранить независимость по отношению к господину, чей хлеб он ел.
– Бертран, – обратился к нему граф, подобревший после обильной еды, – выбери свою лучшую песню и спой нашей королеве!
Рауль выпил изрядное количество вина, глаза его потемнели, и, может быть, этот необузданный человек уже испытывал вожделение к странной северной женщине, у которой такие маленькие руки и ноги. Глядя на Анну, он тут же вспомнил кулаки своей супруги, самолично раздававшей зуботычины конюхам и звонкие оплеухи служанкам.
Анна поблагодарила своего гостя и приготовилась слушать. Король сидел с мрачным видом, недовольный в глубине души, что посещение Рауля помешало ему заняться некоторыми хозяйственными делами. Нужно было, кроме того, проверить оружие в санлисском замке и камни для пращей, заготовленные на всякий случай. От вина и съеденной не в меру говядины Генрих испытывал тяжесть в желудке, рыгал иногда и все более и более погружался в сонливое состояние. Рауль всегда раздражал его своей красотой, заносчивостью, происхождением от Карла Великого. Пока этот красавчик ссорился с епископами, он сам метался из одного замка в другой, собирал по денарию деньги, чтобы заплатить нормандским наемникам, трудился от зари до зари. А между тем вассалы с каждым днем все неохотнее слушались короля Франции…
Бертран с робкой улыбкой смотрел на королеву. Менестрель никогда не видел Анну, а только слышал о ее изумительной красоте. Ему было не по себе. В обществе такой благородной дамы он никогда не посмел бы петь про грубых мужланов. На этот случай у него были припасены стихи о храбрых рыцарях, сражавшихся с драконами, чтобы освободить красавицу, о старом императоре Карле, о его путешествии в Палестину за святынями. Но прежде чем он успел настроить виелу, Анна сказала: