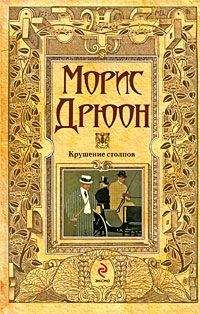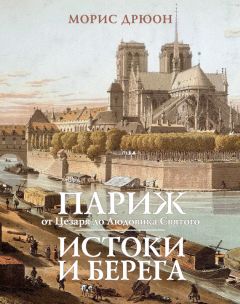Ознакомительная версия.
Вино старило Габриэля. Ему едва исполнилось сорок, а волосы на висках уже поседели, лицо оплыло, под глазами появились мешки. Красавец Де Воос губил себя. Он все больше и больше курил, и пальцы у него пожелтели.
Страдание отметило и Жаклин. Она стала худеть. Кожа утратила трогательную прозрачность, которая дотоле придавала ей обаяние неземного существа. Это была маленькая сухая женщина, когда-то прелестная, а теперь лицо ее начало покрываться морщинами.
Габриэль уже реже желал ее. Собственно, желание возникало у него, лишь когда он был пьян. Сначала, помня опыт того первого дня, когда она уступила, Жаклин решила в таких случаях ему отказывать.
– А-а! – воскликнул в тот вечер Де Воос. – Мадам теперь живет с мертвым рогоносцем… А я – пошел вон!
И она подчинилась ему. Сила, которой она не в состоянии была противостоять, соединяла ее, сливала ее с телом Габриэля. Не будь этой силы, властвовавшей над ней, разве смирилась бы она с такими страданиями, да и вообще были бы у нее основания так страдать?
Она лишь старалась в эти минуты не подпускать большие руки Габриэля слишком близко к своей шее. «А вообще-то, в конце концов, возможно, так было бы и лучше…» – временами говорила она себе.
Когда Габриэль не был пьян или не находился во власти своей навязчивой идеи, он разгадывал кроссворды. От безделья он пристрастился к этому занятию. Потому он так и любил еженедельники. Он без устали бродил по комнатам Моглева с «Малым Ларуссом» в руке. Под конец он выучил наизусть всех потомков Авраама и полный список царей Халдеи и Ассирии.
В этот период лучшими минутами жизни для Жаклин, единственно счастливыми минутами, были вечера, когда она шила, а Габриэль, посасывая золотой карандаш, который она подарила ему, бормотал:
– Так… «генералы спорили из-за раздела его империи»… девять букв… О, это слишком легко, легко до нелепости!
В такие дни Жаклин благодарила Бога за крохи жалкого счастья, выпавшего им, преждевременно состарившимся людям. Но бывало это редко.
– Послушайте наконец, Габриэль! – воскликнула она однажды, потеряв терпение. – Вам не кажется, что, напоминая мне без конца о Франсуа, вы сами не даете мне его забыть? Неужели вы не видите, что делаете все как раз наоборот?
Он прекрасно знал, что она права и что отныне не она, а он виноват в их страданиях. Но вместо того чтобы признать это, он подумал: «Вот что: за то, что ты так сказала, я буду теперь тебе изменять».
Его решение не было плодом вновь проснувшегося желания, а объяснялось лишь жаждой мести: Габриэль прибегнул – как часто бывает в подобных случаях – к помощи своей старой приятельницы, а именно Сильвены Дюаль.
Нежность, с какой мы вспоминаем прошлое и тех, кто принес нам одновременно добро и зло, чувство реванша, какое испытываем при возвращении того, кто нас бросил, желание узнать, хочет ли она по-прежнему близости с человеком, которого до тех пор считала единственной настоящей любовью в своей жизни, – все это побудило Сильвену сдаться без долгих уговоров.
Она не получила никакого удовольствия. Пожалев, что согласилась, она подивилась тому, что плоть может после такого горения стать настолько безразличной, и взгрустнула по разбитым иллюзиям.
Что же до Габриэля, странная трусость удержала его от того, чтобы признаться Жаклин в поступке, на который он и решился-то лишь для того, чтобы потом им хвастаться. А однажды свершив его, он вдруг понял, насколько все это оказалось тускло, ненужно и не принесло ему никакого облегчения.
И жизнь потекла дальше – охота на оленей, вспышки ярости, пьянство, кроссворды…
Накануне Рождества Жаклин и Габриэль отправились в заведение для девушек, где училась Мари-Анж, чтобы присутствовать на традиционном спектакле, который устраивали в конце года. Мари-Анж появлялась на сцене дважды – сначала она прочла стихотворение своего дедушки «Птица на озере», затем выступала в хоре, исполнившем «Шестое благословение» Франка.
Мари-Анж было теперь пятнадцать с половиной лет, и она была выше матери. Держалась она презрительно и самоуверенно, что часто бывает с девушками в этом возрасте и что объясняется лишь нетерпеливым желанием быстрее покончить с затворнической жизнью. Ее золотисто-каштановые волосы, разделенные пробором, падали на плечи и заворачивались валиком: Мари-Анж ценила флорентийские портреты.
Жаклин, глядя на дочь, не видела в ней ничего, что напоминало бы ее самое, но невольно отмечала черты – разрез глаз, рисунок рта, длинную спину, – напоминавшие ей Франсуа.
Габриэль в тот день держался молодцом: он уже протрезвел после выпитого накануне, а заново еще не накачался. «Благословение» Франка было ему скучно, но он получал удовольствие от вида этих девчушек и, пожалуй, особенно от вида Мари-Анж. У него было такое ощущение, будто он погружается в свежую и слегка надушенную воду.
«Ну вот, – говорил он себе, – вот единственный способ быть счастливым. Жениться на хорошенькой девочке лет шестнадцати, поселить ее в деревне, наделать ей детей, а самому немного погулять».
Жаклин боялась этого дня. Но, к ее удивлению и радости, ничего не произошло.
Вечером она простилась с Жан-Ноэлем и Мари-Анж, отправлявшимися в обществе своей тети Изабеллы на зимний курорт. Жаклин предпочитала отказать себе в удовольствии побыть вместе с детьми во время рождественских каникул, только бы не подвергать их на целых две недели изменчивым настроениям отчима.
Она охотно сама поехала бы с ними в горы, вместо того чтобы оплачивать это путешествие Изабелле: «О, как хорошо было бы устроить себе передышку… Но одному Богу известно, что еще может выкинуть Габриэль в мое отсутствие…» И та самая причина, которая побуждала ее уехать, заставляла ее остаться.
Воспользовавшись минутой, когда Габриэль вышел из комнаты, она торопливо сказала детям, не отрывая взгляда от двери:
– И не забывайте молиться за папу, мои дорогие… Я никогда не забываю, знайте это.
Мари-Анж бросила искоса взгляд на мать с известной долей презрения и безразличия. Ее прежде всего интересовало, будут ли там в горах мальчики; она была убеждена, что скоро всех научит, как надо жить. Но до чего же это долго – целых двадцать четыре часа ожидания в день! Ибо и во сне она не переставала ждать.
В тот же вечер Габриэль и Жаклин вернулись в Моглев, взяв с собой госпожу де Ла Моннери.
Поскольку кюре из Шанту-Моглева обслуживал одновременно несколько приходов, между которыми старался поровну распределять свои милости, полунощную мессу в этом году он служил не в Моглеве, и в замке все рано легли спать, как в обычный день.
Наутро Жаклин поехала раздавать подарки под елкой в народной школе. А Габриэль, покончив с кроссвордами в «Грингуаре» и «Кандиде», прошел на псарню, чтобы поговорить с Лавердюром о завтрашней охоте. Лавердюр прочешет лес в направлении Сгоревшего дуба, где, по словам лесничих, появились олени.
– У вас не найдется, Лавердюр, стаканчика белого вина для меня? – спросил вдруг Габриэль.
– Ну конечно, как не быть, господин граф… Леонтина! – позвал доезжачий. – Принеси-ка нам бутылочку – ты знаешь какого.
– Ах, месье, зря вы так! От этого только здоровье портится! Говорю вам откровенно, – объявила Леонтина Лавердюр.
– Ладно, хватит болтать-то, – обрезал ее доезжачий. – Господин граф ведь оказывает нам честь…
Через некоторое время Габриэль спустился в деревню. По пути ему попался мэр и пригласил его отведать марка нового урожая.
– Он, конечно, жестковат на вкус, господин граф, – сказал мэр, – но аромат… и потом на языке долго остается: вы сразу это почувствуете – вы ведь знаток.
Мэр, размышляя о будущих муниципальных выборах, радовался, что новый владелец замка слывет в деревне пьяницей.
В замке первая половина ужина прошла, однако, спокойно. Габриэль нашел лишь один повод вставить неприятное словцо. Когда госпожа де Ла Моннери заговорила о каком-то человеке, овдовевшем несколько лет назад, Габриэль, повернувшись к Жаклин, заметил:
– Вот за кого вам надо было выходить замуж – вы бы могли тогда поженить своих мертвецов.
Жаклин, взявшая в рот немного пюре из каштанов, – к индейке она и не притронулась, настолько тревога лишила ее аппетита, – промолчала.
Большая столовая в Моглеве была вся украшена исключительно оленьими рогами. На стенах, на дверных панно и даже на балках потолка висели, не оставляя ни сантиметра свободного пространства, две или три тысячи убиенных. Кое-где виднелись побелевшие рога столетней – а то и больше – давности. Неяркий свет керосиновых ламп и канделябров создавал огромные тени, и это собрание черепов и рогов, обступавшее вас со всех сторон, куда ни глянь, напоминало и ведьмино дерево, и комнату пыток.
Слепец, чьи чувства все более угасали, походил в этих декорациях не столько на живого, сколько на призрак, удерживаемый на земле нитями паутины. Госпожа де Ла Моннери, чей слух слабел по мере того, как день клонился к вечеру, разговаривала сама с собой, не заботясь о том, слушает ли ее кто-нибудь, и не дожидаясь ответа.
Ознакомительная версия.