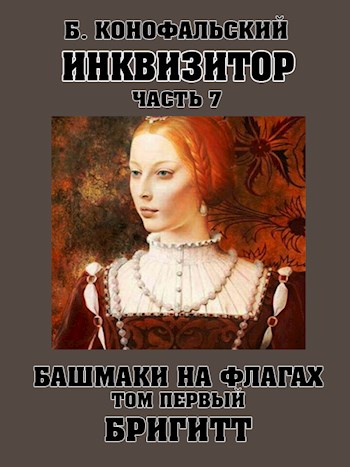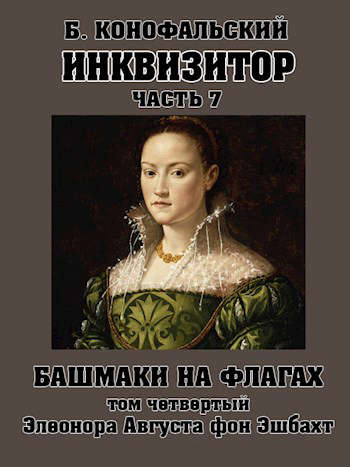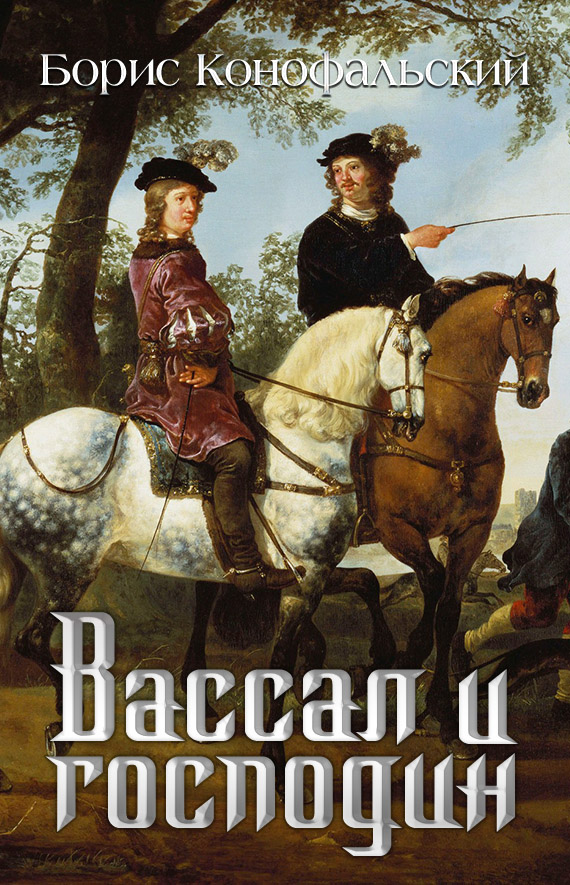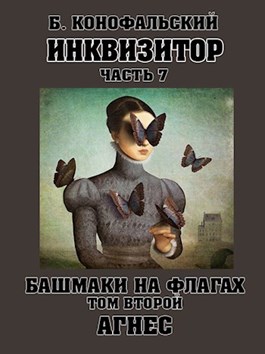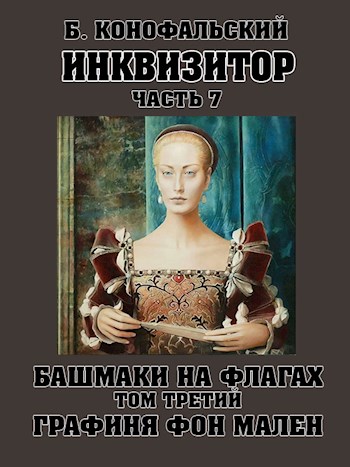ещё много что.
Ко всему этому нужно было немало редких ингредиентов. Редких и недешёвых, она собиралась их купить, и для этого ей нужен был богатый епископ.
— Ута! — закричала Агнес.
— Да, госпожа, — ещё снизу лестницы кричала в ответ служанка.
Она влетела в комнату и поморщилась от едких запахов, что стояли в ней.
— Послезавтра я буду на обеде, помнишь?
— Помню, госпожа, помню.
— Платье?!
— Портниха говорит, что низ подобьёт, как вы велели, юбка удлинится, а клиньями бока расшивать, так она без вас не решается, боится испортить. Говорит, чтобы вы на примерку были.
— Так поехали к ней, скажи Игнатию, чтобы запрягал лошадей, и подавай одеваться. Едем платье править.
Ута убежала вниз, а Агнес даже стало себя жаль немного, всё от бедности это. Она пошла в свою спальню, к зеркалу. Как ни крути, а у неё только одно хорошее платье, в котором она может на званом обеде быть. А платье то было на её естественное тело, а ей же хотелось в свете появиться яркой, чтобы быть повыше, да чтобы и грудь была полнее, плечи пошире. Вот и приходилось одежду править. Это своё последнее богатое платье расшивать и удлинять.
Она взяла браслетку с комода, ту, что дарил ей банкир. Нацепила на руку. Хорошо. Хорошо, да мало. Разве молодой девушке достаточно одной жалкой браслетки? Она поглядела на лики святых угодников, что были на цепочке. Нет, мало ей этого, ей хотелось жемчугов, и перстней, и серёжек золотых с каменьями. Она подняла руку, потрясла браслетом. Лики святых тряслись вокруг её запястья. И этого ей было мало.
Выехали из дома, и прямо за первым же поворотом к карете кинулся продавец пирожных и булок, ловкий и сбитый малый.
— Госпожа Сивилла! — кричит он, а сам торопится за каретой и старается булки с лотка не растерять. — Помните меня? Я Петер Майер, пирожник.
Она смотрит на него сверху вниз. Узнаёт, конечно, но виду не показывает. Отворачивается.
— Госпожа Сивилла, а я вас помню! — продолжает кричать болван. — А вы меня?
Она не хочет, чтобы лишние люди её видели. Но он не отстаёт от кареты, всё бежит и бежит рядом:
— Меня все запоминают! Вы тоже должны. Неужто не помните?
— Прочь пошёл, — наконец отвечает она высокомерно. — Хам!
А он всё равно, подлец, не отстаёт, ловкий мошенник вдруг прыгает и цепляется за дверцу кареты, и едет, и ведь ни одной булки наземь при том с лотка не роняет.
— Хотите сдобу, госпожа Сивилла? — говорит юноша, он смотрит на неё, такой белозубый, плечи широкие, руки сильные у него. — Булки у меня ужас как хороши, ни масла, ни сахара на них не жалею. А яиц сколько уходит — пропасть!
И она не выдерживает, улыбается ему, хоть и не хочет.
— Ну, госпожа, берите, бесплатно вас угощу…
— Вечером приноси, куплю, — вдруг неожиданно для себя самой говорит Агнес, — дом мой знаешь, поди?
— Слева от монастыря стоит, — сразу говорит парень.
«Откуда подлец только знает, неужели следил?»
А тут и Игнатий его, наглеца, заметил:
— А ну пошёл, — рычит кучер, нагибаясь с козел, и в воздухе звонко щёлкает бич.
— Ай, сволочь какая, — кричит Петер Майер и отрывается от кареты, — как больно ожёг!
Он остаётся на дороге, чешет бедро, а Агнес выглядывает в окно и смеётся, видя это: получил, наглец! Поделом!
Выругав и немного напугав портниху, чтобы та лучше старалась, Агнес вернулась домой.
Шла Рождественская неделя, на улицах было много людей в лучшей своей одежде. Люди ходили друг другу в гости, встречаясь обменивались поклонами и поздравлениями. А девушка, видя на улицах радостных людей, слыша, как громко они славят святой праздник, тоже хотела, чтобы её кто-то поздравлял. Тоже хотела с кем-нибудь поболтать. А с кем ей было общаться? Со слугами? С вонючим детоубийцей? Со старым хирургом? И тут она поняла, что особо ей и поговорить-то не с кем. Как хорошо было прежде, когда она могла говорить с господином. Он её слушал. И ничего, что с высокомерной улыбкой, но слушал, общался и спорил по вопросам писания. И с братом Ипполитом могла поговорить. А теперь тут, в огромном городе, в котором живёт, как говорят, сорок тысяч человек, ей не с кем было словом перекинуться. Ну не с Утой же, этой собакой о двух ногах, ей говорить. Вот она и ждала званого ужина, на который её пригласил банкир Энрике Ренальди, хоть и не знала, доведётся ли ей там поговорить с людьми. Хотя вряд ли, приличной деве в обществе подобает больше молчать, а вот торговое, но тайное дело вести с епископом ей точно придётся. Нет, в том, что ей удастся продать зелье попу, она не сомневалась. Раз поп его искал, значит, и купит. Лишь бы у него деньги были, а уж убедить его она сможет.
И всё-таки, даже этот ужин был не тем, чего она искала для своей души. Ужин был важен для дел. Только для дел. И умные разговоры с господином и братом Ипполитом тоже всё не то было. Ведь не могла она о своих тайных силах, о своих скрытых умениях им рассказывать. Даже господину не могла, хотя он многое знал про неё. А ей так хотелось поделиться этим хоть с кем-нибудь. Похвастаться, показать, что она может, какие зелья умеет вываривать, увидать восхищённые глаза и выслушать похвалы. Ну, а кто мог её похвалить? Вот эти вот людишки, что жались к стенам, когда её карета проезжала по улицам? Городские пузаны, хозяева лавок и мастерских, глупые бабы, что вечно хлопочут по кухне да по дому, волнуясь о своих многочисленных выводках да о своих никому не нужных бессмертных душах. Да расскажи она им про свои умения, так они к попу тут же побегут. Донесут сразу. Нет, никому из всех этих людей она рассказать о себе не могла. Прислуга и так о ней знала и боялась её, даже Игнатий её побаивался. Вот и стала она иной раз заглядывать на рынки, бродила там, как будто искала себе редкие приправы, а сама всё высматривала и высматривала там женщин, особенно смотрела среди тех, что торговали травами да настоями. Заглядывала им в глаза, пытаясь узнать среди них таких же, как она. Сестёр.
Но пока никого не находила, то ли скрывались бабы, боясь показать себя, то ли не было ей подобных на рынках. В общем, томилось сердце молодой женщины. Ни подруг, с кем поделиться, ни любимого, с кем спать лечь.
— А ну