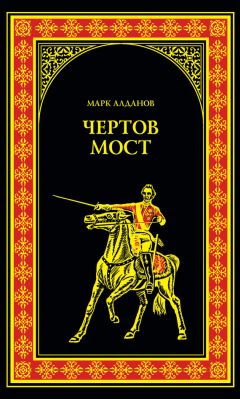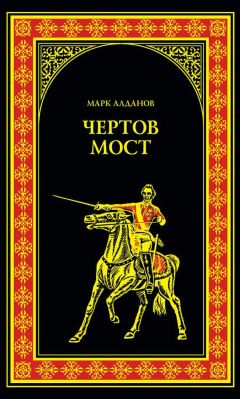Намыленные щеки и глупое лицо короля дали вдруг другой тон мыслям Гамильтона. Сцена показалась ему чуть-чуть комической, как неудавшийся театральный эффект. Он оглянулся на море. Распухший труп теперь стоял к нему боком и был гораздо менее страшен, чем в первую секунду.
«Le coup est raté, mon vieux!»[140] — подумал сэр Вильям, почему-то вспомнив сеанс attitudes леди Эммы.
Он склонил голову набок и почтительно спросил, не угодно ли будет его величеству еще до обеда начать партию виста.
Накануне битвы при Нови французский главнокомандующий все утро объезжал полки в сопровождении блестящей свиты, на великолепном коне, сверкая золотом мундира и дорогим бархатом чепрака (как Бонапарт, перед которым он преклонялся, Жубер считал пышность необходимой для престижа и в меру возможности старался придать нарядный вид своим полуголодным войскам). В разных частях фронта он останавливался, собирал солдат и говорил речь: начинал с тяжелого положения родины, объяснял значение предстоящего боя и призывал армию исполнить свой долг. Речи эти волновали Жубера: в том особенном приподнятом настроении, в каком он находился последние недели, он говорил очень сильно — и волнение его передавалось войскам, хотя не все солдаты могли его слышать и не все слышавшие понимали то, что он говорил. Но даже люди его свиты, слушая во второй и в третий раз одно и то же, не усмехались, а с бледными взволнованными лицами не отрываясь, в упор смотрели на главнокомандующего.
С приездом генерала Жубера во французской армии исчезло уныние, которое вызвали неудачи последних месяцев: победа Суворова над Макдональдом под Треббией и занятие австро-русскими войсками Милана и Турина.
Жубера армия хорошо знала и по 1796-му, и по 1798-му году. В пору первой итальянской кампании он был правой рукой и любимцем Бонапарта, который, как передавали, уезжая в Африку, рекомендовал его в свои заместители. Еще больше прославила двадцатидевятилетнего генерала тирольская война и дальнейшие его действия в качестве самостоятельного полководца. О военных дарованиях, храбрости и благородном характере Жубера ходили самые лестные рассказы. Плохо о нем не говорил почти никто. Бескорыстие же его стало почти легендарным: этим в пору революционных войн было гораздо труднее удивить, чем храбростью или военным искусством. Храбры были все революционные генералы, честные же люди среди них считались по пальцам. Солдаты говорили, что в трудные дни Жубер отдавал свое жалованье на покупку продовольствия для войск; а в правящих парижских кругах рассказывали с изумлением, что молодой полководец отказался принять подарок, предложенный ему в Италии, — картину, оцененную в сто тысяч ливров. Баррас, узнав об этом отказе, только разводил руками — он, впрочем, давно про себя решил, что генерал Жубер глуп.
Подъем духа во французской армии еще усилился, когда распространились слухи о том, что сам Суворов высоко ставит военные дарования Жубера. Слухи эти были основательны. А с мнением Суворова считались чрезвычайно. В республиканских войсках не было никакой ненависти к противнику, как ни старались ее раздуть газеты и Директория. Ненависть к противнику была в первые дни войны — и прошла, как всегда проходит на фронте в пору затянувшихся войн (что нисколько не мешает учинению всяческих зверств). «Марсельезу» войска пели, и она даже возбуждала солдат, как возбуждали их вино и грохот барабанов. Слов «Марсельезы» почти никто не знал дальше двух строчек, а те немногие, которые знали весь первый куплет, произносили его механически. Слова «qu’un sang impur abreuve nos sillons»[141] не могли производить никакого впечатления на солдат — кровожадные метафоры не были во вкусе людей, ежеминутно рисковавших жизнью: и кровь они собственными глазами видели, как свою, так и неприятельскую, и нивы были не французские, а чужие.
Члены Директории, любившие поднимать своим красноречием дух армии и возбуждать в ней ненависть к наемникам Питта, были у тех солдат, которые о них вообще слышали, посмешищем и предметом злобного презрения — как штатские люди, не подвергавшиеся в Париже ни малейшей опасности да еще получавшие в тылу большое жалованье за неопасные и, должно быть, скверные дела. Напротив того, Суворов (его и Директория, и газеты, и генералы, и солдаты почему-то называли Souwaroff) не только не возбуждал ненависти во французской армии, но был в ней своеобразно популярен — за храбрость, за удачу и за то, что с его приездом в Италию опасность смерти для каждого солдата увеличилась во много раз: с уважением в тоне втихомолку передавали (начальство это скрывало), что в битве у Треббии из тридцати пяти тысяч человек осталось в живых лишь немногим более половины. С удивлением рассказывали о русском генерале разные анекдоты; лицо его по портретам было всем хорошо известно. Для возбуждения ненависти к Суворову из Парижа в армию сообщали слухи о свирепости русского главнокомандующего, о том, будто в Измаиле он вырезал двадцать тысяч турок, а при штурме Праги — девять тысяч поляков. Но и это не вызывало ни особой ненависти, ни жажды мщения; солдаты революционной армии не раз видали и устраивали при штурмах резню и плохо представляли себе грань между сотней, тысячей или десятком тысяч вырезанных людей, тем более чужих: турок и поляков. Это даже увеличивало престиж Суворова, так как размер резни невольно принимался умами солдат пропорциональным значению победы.
План сражения был уже почти составлен Жубером. Армия его расположилась на скатах Апеннинских гор, полукругом вокруг городка Нови, раскинувшегося у подножия Монте-Ротондо. Эта крепкая позиция до некоторой степени уравновешивала численное и артиллерийское превосходство противника. Жубер рассчитывал на левом фланге выдержать и отбить натиск союзников, сосредоточивая тем временем на правом, для атаки на деревню Поццоло-Формигаро, отборные ударные колонны под начальством генерала Моро. Ходили зловещие слухи о падении Мантуи — это означало усиление неприятельских войск двадцатитысячным осадным корпусом генерала Края. Жубер убеждал себя и других в том, что неприступная Мантуя, взятие которой стоило три года назад огромных усилий генералу Бонапарту, не могла пасть так быстро. Но уверенности у него не было, особенно после того, как о капитуляции сообщили флорентийские и ливорнские газеты. Мысль о падении Мантуи составляла больное место Жубера: если б женитьба перед самым походом не задержала его во Франции, он мог бы дать генеральное сражение раньше. Всякий раз, как это соображение приходило ему в голову, главнокомандующий вздрагивал и уверенно говорил, что Мантуя, конечно, еще держится.
Но когда он выехал на передовые позиции и остановился со своей свитой на одной из высот вблизи города Нови, перед ним на обширной равнине, засеянной кукурузой, между белевшими вдали строениями крепостей Александрии и Тортоны, от реки Бормиды до реки Скривии и еще за нею, по ее правому берегу, открылась вся неприятельская армия. И сразу привычным глазом он увидел, что численность ее много больше той, о которой ему сообщали разведчики. Сомнений быть не могло: Мантуя пала, и осадный корпус присоединился к войскам Суворова. Жубер ничего не сказал и долго неподвижно стоял на горе, не отводя глаз от зрительной трубы, то подсчитывая силы противника, то бросая подсчет.
Имея дело с этим страшным русским стариком, он не мог больше рассчитывать, что снова, как часто прежде, его спасет нерешительность противника. Суворов, конечно, не. упустит случая дать решительное сражение. Отступать было так же опасно, как оставаться на позициях.
Рядом с ним на высоте находилось человек десять офицеров его штаба. Они шепотом обменивались впечатлениями. Сен-Сир, перегнувшись красивой своей фигурой к седлу генерала Моро и похлопывая левой рукой его лошадь между ушами, вполголоса доказывал, что о победе не может быть речи: нужно отступить в горы. Нервно оглядываясь на левую руку Сен-Сира, Моро с неудовольствием его слушал. Не получая ответа, генерал Сен-Сир замолчал и, прикрыв глаза рукой от солнца, стал смотреть вдаль: бывший художник, страстно привязанный к Италии, он залюбовался пейзажем.
Другие офицеры — в большинстве люди очень молодые — думали о том, какую эффектную историческую картину представляет собою их блестящая конная группа, остановившаяся на чудесном холме над вековым итальянским городком. Так должен был бы увековечить их художник.
— Tiens, mais c’est Souwarow![142] — вдруг сказал чей-то удивленный голос.
— Comment Souwarow? Où?[143] — спросил, вздрогнув от неожиданности, Жубер. Несколько человек задало одновременно тот же вопрос — и десяток зрительных труб тотчас устремился в одну сторону: в поле, почти посредине между французскими и союзными передовыми линиями, лишь немногим ближе к союзникам, далеко впереди передовой цепи русских егерей, которые залегли в хлебах у Поццоло-Формигаро, стояло два всадника. Первый из них действительно был Суворов. В зрительную трубу легко было признать его своеобразную фигуру. В рубахе и холщовом исподнем платье, как почти всегда летом, без мундира, он сидел на дрянной клячонке, скрючившись на казацком седле, бросив поводья и опершись на его передний горб локтем левой руки, в которой держал записную книжку. Правой рукою он то поспешными движениями приставлял к глазам подвешенную на длинном шнурке к шее зрительную трубу, то, бросая ее, записывал что-то в книжку. Второй всадник был простой казак.