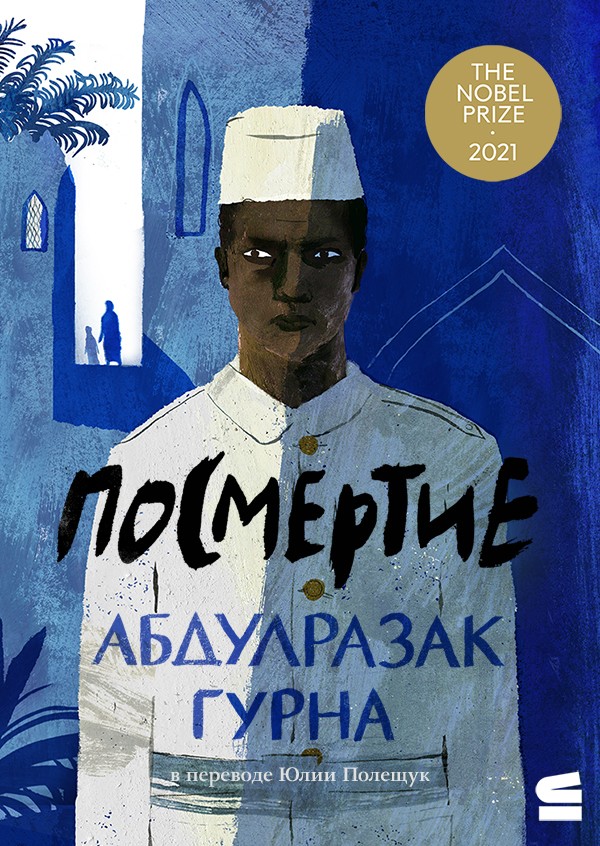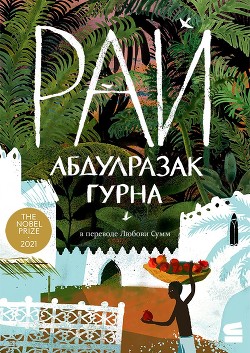он втихомолку заботился, скрывая свою неожиданную участливость за напускной грубостью и неизменным цинизмом.
* * *
В следующую пятницу Афия вновь пришла к Хамзе, но на этот раз сказала Би Аше, будто бы идет к подруге Джамиле, та из дома родителей переехала на другой конец города, и они знали, что в их распоряжении весь день.
— Я дивлюсь своей смелости, — призналась ему Афия. — Вру, днем в разгар Рамадана тайком пробираюсь в комнату к любовнику, вообще завела любовника. Никогда бы не подумала, что я такая, но я не могла не прийти, зная, что ты лежишь здесь, в считаных шагах от меня.
Они тихонько занимались любовью, потом молча лежали в дневном полумраке.
— Никак не привыкну, что это настолько прекрасно, — произнес он наконец.
Она медленно провела по нему руками, точно старалась выучить наизусть, — по его лбу, губам, груди, ноге, исподу бедра.
— Ты стонал, — сказала она. — Из-за ноги?
— Нет, — улыбнулся он. — От наслажденья.
Она шаловливо шлепнула его по бедру, помассировала шрам, как прежде. Расскажи, попросила она.
И он рассказал ей о тех годах, когда был на войне. Начал с утреннего перехода до учебного лагеря, потом рассказал о боме, о занятиях на плацу, как это было утомительно и вместе с тем радостно, как жестоки обычаи этой среды. Рассказал ей об офицере и как тот учил его немецкому. Сперва рассказал коротко, потому что много нужно было сказать. Она слушала, не перебивая, не задавала вопросов, лишь время от времени вздыхала негромко в ответ на его слова. Когда он рассказывал об офицере, легонько покачала головой и попросила повторить сказанное, и он понял: она не хочет, чтобы он так спешил. Он стал рассказывать медленнее, подробнее: о глазах офицера, о пугающей близости, языковых играх, в которые тот любил играть. Рассказал про омбашу, шауша и фельдфебеля.
— Это сделал он, фельдфебель, — сказал Хамза. — В самом конце войны, когда мы все выбились из сил, ошалели от кровопролития и жестокости, в которых погрязли за эти годы. Он был жестоким, всегда был жестоким. Он ударил меня саблей — от злости, а может, давно хотел меня изувечить, не знаю почему. Наверное, из-за офицера.
— Почему из-за офицера? — спросила она.
— Тот меня всегда защищал, — помявшись, ответил Хамза. — Не отпускал от себя. Не знаю почему… Точнее, не уверен. Он говорил: мне нравится твое лицо. Наверное, кое-кто… Фельдфебель, а может, и другие немцы… считали, что это неправильно, так нельзя… Что это… чересчур, такие нежности.
— Он тебя трогал? — тихо спросила она, надеясь на откровенный ответ, надеясь, он скажет то, что ему надо ска-зать.
— Один раз он влепил мне пощечину, иногда во время разговора дотрагивался до моей руки, легонько, не в этом смысле. Наверное, они думали… что он трогает меня. Он говорил мне такое, фельдфебель, приписывал мне всякие гадости. Мне было стыдно из-за его неотвязной жестокости, будто я чем-то ее заслужил.
Она мрачно покачала головой.
— Ты слишком хорош для этого мира, единственный мой. Не стыдись, ненавидь его, пожелай ему зла, плюнь на него.
Он надолго замолчал, она ждала, потом попросила:
— Продолжай.
— После того как меня ранили, офицер велел отнести меня в немецкую миссию, в местечко под названием Килемба. Тамошний пастор был врач, он вылечил меня. Красивое место. Я провел там два с лишним года, помогал в миссии, поправлялся, читал книги фрау. Потом пришли британцы — не сразу, правда, — и их медицинское управление объявило пастору, что его врачебная подготовка не соответствует их официальным требованиям. У него не было диплома врача. Они решили превратить лечебницу при миссии в сельскую больницу, но не могли поручить руководство пастору, и он решил, что пора возвращаться в Германию. Мне тоже пора было двигаться дальше. Я кочевал с места на место, брался за любую работу — на фермах, в кафе, столовых, подметал улицы, был домашним слугой… Словом, за всё, что удавалось найти. Порой приходилось тяжко, из-за ноги, пожалуй, в конце я перетрудил ее, но я поработал в Таборе, Мванзе, Кампале, Найроби, Момбасе. У меня не было конечной цели, по крайней мере тогда, — с улыбкой закончил он. — Но теперь я понимаю, что это не так.
Повисло долгое молчание, и Афия, обдумывая его слова, встала и начала одеваться.
— Уже поздно, наверное. Я хочу узнать обо всем, я хочу узнать больше о добром пасторе, его миссии, как он вылечил тебя, но теперь мне пора, — сказала она. — Бимкубва рассердится, если я опоздаю, она что-то подозревает. Она сказала, ко мне кто-то посватался, но теперь уже поздно. Я уже несвободна. Когда ты придешь разговляться, я буду пахнуть тобою. До следующего раза я буду тосковать по твоей любви. Я слушаю тебя и думаю об Ильясе. Он старше тебя. Я говорила, что он красиво поет? Я представляю, каково ему пришлось на войне и что он сейчас жив и здоров и говорит с кем-то, как ты говоришь со мной.
— Можно выяснить. Хотя бы попробовать, — поправился Хамза. — Есть документы. У немцев с документами порядок. И тогда ты узнаешь, что с ним случилось.
— Что мы выясним? Да и так мне не надо знать наверняка: что случилось, то и случилось. Если он где-то жив и здоров, от того, что я об этом узнаю, для него ничего не изменится, да и если он сейчас где-то жив и здоров, быть может, он не хочет, чтобы его нашли, — ответила Афия. — Мне пора.
— Удача не длится вечно, если вообще приходит, — сказал Халифа, когда они в третий вечер Ида сидели на крыльце. — Ты с нами всего несколько месяцев, но мне кажется, я знаю тебя давно. Я привык к тебе. Я с самого начала разглядел что-то живое за твоим обликом ходячего мертвеца. Когда ты только пришел сюда, ты выглядел так, словно вот-вот рухнешь на землю передо мной. А теперь посмотри на себя. Ты нашел работу, которая тебе по душе, и даже сумел понравиться нашему сквалыге-тугодуму — вот только обязательно попроси у него прибавку, раз уж ты теперь опытный плотник. Ах нет, наш святой будет смиренно ждать, пока сладкое само его найдет!
Послушай, что я скажу: удача не длится вечно. Никогда не знаешь, когда окончится светлая полоса и вернется ли вновь. Жизнь полна скорбей, надо ценить хорошие минуты, быть благодарным за них и действовать решительно. Пользоваться случаем. Я не слепой. Я смотрю, я видел что видел, я кое-что понял, и кое-что из того, что я понял,