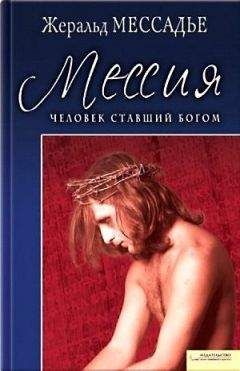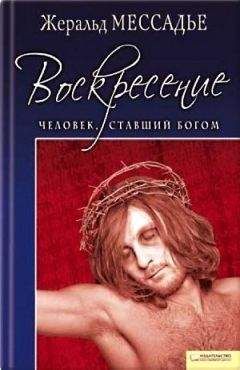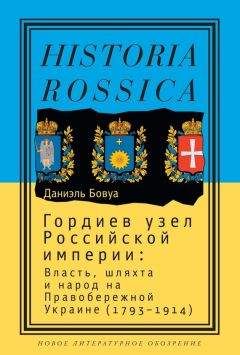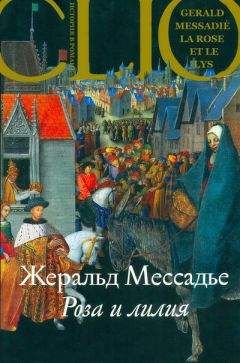К счастью, на улице Бьевр появился Феррандо, у которого случились банковские дела в Париже. Он удивился, застав там Франсуа, который рассказал ему обо всем. Феррандо стал серьезен.
– Ты и твоя мать – люди независимые и, как следствие, одинокие. Вы не связаны родством ни с одной влиятельной семьей и побеждаете только благодаря своему уму, своим заслугам. Поэтому вы кажетесь легкой добычей, над которой можно восторжествовать без особого труда. Меня не удивляет то, что с вами происходит. Вы вмешиваетесь в дела сильных мира сего, а у тебя нет даже королевской благосклонности, которая порой ограждала твою мать. Надо тебя женить, вот и все.
Такой же совет дал Александр Люксембургский, подумал Франсуа.
– Но партия вовсе не кажется мне проигранной, несмотря на могущество и связи твоих врагов, – продолжал Феррандо. – Я бы сказал, скорее наоборот.
Пока же надо было заниматься повседневной работой. В мастерской на улице Сен-Жан-де-Бове уже установили плавильную печь. Франсуа распорядился отлить в Страсбурге больше тысячи литер, их доставили в Париж в двенадцати ящиках. И первые два пресса были наконец изготовлены.
Гордое сознание важности своего дела вдохновляло Франсуа.
Но он чувствовал бы себя лучше, если бы имел право носить кинжал.
Суд состоялся через три недели.
Хотя на допросе Кантена Лафуа всплыло имя Бернара де Морвилье, зрителей было мало. Приставы и секретари не проронили об этом ни слова, да и вообще считалось обычным делом, что маленькие или ничтожные люди, попавшись на чем-нибудь противозаконном, часто поминали высокопоставленных персон в надежде повлиять на судей или публику. Сверх того, дела, связанные с отравлением, привлекали зевак лишь в том случае, если замешаны были интересные персонажи – особенно женщины. Кумушки сбежались бы посмотреть на блудницу, отравившую судейского чиновника, или на невестку, покончившую со свекровью; что же касается Франсуа де л'Эстуаля, то его в Париже почти никто не знал. Если бы он не подал жалобы, дело вообще не стали бы рассматривать в суде: просто вздернули бы Кантена Лафуа, и все. Последний не имел средств на адвоката, и прокурор обрушил на него всю мощь своего красноречия: поскольку из донесения командира стражников явствовало, что при обыске были найдены неопровержимые улики, он завершил речь требованием повесить преступника. И уселся на свое место.
Именно на это и рассчитывал адвокат Фавье: усыпить бдительность прокурора, создав у того иллюзию легко одержанной победы.
Франсуа, рядом с которым сидел Феррандо, то скрещивал, то вытягивал ноги.
Фавье попросил слова, получил его и заявил, что прокурор не назвал имя заказчика преступления – Бернара де Морвилье, регента университета. Исполнитель, разумеется, виновен, но автор умысла – еще больше.
– С другой стороны, – заметил он, устремив свой острый взгляд на заинтригованных судей, – прокурор ничего не сказал о мотиве преступления. А таковой наличествует всегда.
Мэтр Фавье был светилом среди адвокатов. Поэтому все удивлялись, что он взялся за столь пустяковое дело. И его вопросы попали в цель.
Услышав имя Морвилье, судьи внезапно встрепенулись и стали озираться вокруг, словно индюки на птичьем дворе. Один из них повернулся так резко, что едва не потерял судейскую шапочку.
Прокурор поднялся и с негодованием воскликнул, что не следует брать в расчет измышления жалкого преступника, который пытается спасти свою шкуру. Кто-то из судей пожал плечами.
Фавье спокойно возразил, что у него имеется доказательство служения подсудимого Лафуа у Бернара де Морвилье. И предъявил второй документ, найденный Франсуа, положив его на пюпитр прокурора. Тот передал бумагу судьям, которые с явным неудовольствием водрузили на нос очки. Фавье не без труда заставил их вернуть улику.
Дело принимало для судей скверный оборот. Оказавшись в безвыходной ситуации, они отложили вынесение приговора, пока не будет выслушан, horribile dictu[57], свидетель Бернар де Морвилье и свидетель Монсомер, его дворецкий.
Кантен Лафуа выиграл несколько дней жизни. Следующее заседание должно было состояться через три дня. Но его перенесли по причине занятости регента. Потом отложили еще раз.
Однако регенту, пусть даже и носившему имя Морвилье, нельзя было уклоняться от вызова в суд бесконечно – от этого могла пострадать репутация его брата. Не только парижане прохаживались насчет важного клирика, который боится правосудия, – в университете тоже начали косо посматривать на навязанного сверху регента. Чем больше затягивалось дело, тем больше возникало слухов: словно к хвосту собаки привязали кастрюлю, которая громко стучит по булыжной мостовой.
Явно осведомленный о происходящем Гийом Фише явился на улицу Сен-Жан-де-Бове под тем предлогом, будто хочет взглянуть, как продвигается работа.
– Когда вы надеетесь приступить к печатанию? – спросил он Франсуа.
– Монсеньер, я ожидаю поставку чернил на неделе. Но мы уже начали набирать текст, который вы предложили.
Это был трактат Цицерона "Об обязанностях".
– Вы действуете споро, хотя вам приходится нелегко.
– Монсеньер, мне очень хочется угодить вам, поддержать репутацию университета и своего искусства. Поэтому, дабы ускорить работу, я заказал в Страсбурге отливку литер.
Фише кивнул. Это был человек прямой и в то же время тонкий. Он взял Франсуа за руку.
– Я в курсе вашей тяжбы. Князь-архиепископ Александр Люксембургский написал мне обо всем. Университет хотели использовать, и я возмущен этим. Равным образом меня привела в ужас попытка вас отравить. Они хотели помешать нашей совместной работе. Естественно, я не могу появиться в суде, ибо это приведет к расколу в университете. Но все, что знаю я, знает и мой секретарь. Вы с ним знакомы: это мэтр Сильвестр Фромон. Я приказал ему быть в распоряжении мэтра Фавье, и он счастлив помочь вам.
Большего ректор не мог бы сделать.
Мэтр Фромон, которому едва исполнилось двадцать пять лет, приблизился, чтобы пожать руку Франсуа. Это был человек, не склонный к лицемерию. Морвилье он терпеть не мог.
– Его чердак кишит мышами, а погреб – змеями, – съязвил он.
В день второго слушания зал был набит битком; на всех подходах ко Дворцу правосудия толпился народ. Бернар де Морвилье с большим трудом пробился в зал, двое стражников расчищали ему дорогу.
Высокого роста, с ястребиным профилем и огромным кадыком, он был в черном парадном наряде. В сопровождении адвоката и трех секретарей он вошел в зал с таким видом, словно его должны были короновать, и уселся на скамью для свидетелей, недалеко от Франсуа, которого не удостоил даже взглядом. Появились судьи, и публика встала, судьи сели, и публика села, судьи посмотрели на Морвилье, и зал стал смотреть на него. Он поклонился судьям и прокурору, который ответил на его приветствие с подчеркнутым почтением.
Почти никто не взглянул на Кантена Лафуа, сидевшего на скамье подсудимых между стражниками. И мало кто обратил внимание на молодого человека, посмевшего подать иск против брата высшего сановника королевства.
Морвилье предложили принести присягу, и он приблизился к возвышению, где восседали судьи. Его спросили, знает ли он обвиняемого Кантена Лафуа.
– Меня уверяют, будто он служил при кухнях моего особняка. Я на кухню не заглядываю и этого человека не знаю.
Другой судья спросил, есть ли у него причины желать зла мэтру Франсуа де л'Эстуалю.
– Я видел мэтра де л'Эстуаля в кабинете мэтра Гийома Фише в тот день, когда наш ректор поручил ему создать печатню для университета. С тех пор я с ним не встречался. Я не питаю к нему зла и не вижу, к чему мне было пытаться отравить его, ведь это существенно замедлило бы устройство печатни и нанесло ущерб университету. Это измышления больного или преступного ума.
Фавье выслушал все эти заявления с улыбкой кота, изготовившегося прыгнуть на мышь.
Суд поблагодарил свидетеля, и тот вернулся на свое место. Его адвокат и трое секретарей одобрительно кивали.
Фавье попросил слова. Суд снисходительно разрешил ему говорить, всем своим видом показывая: да ведь дело уже решено! Какого дьявола, мэтр, такому человеку, как вы, тратить время на бесплодные усилия?
– Свидетель мэтр Морвилье ответил, что не знает своего повара Кантена Лафуа, поскольку на кухню не заглядывает. Пусть будет так. Прошу вызвать моего первого свидетеля.
Пристав дал знак стражникам, дверь распахнулась, и вошел мэтр Сильвестр Фромон, также в черном одеянии клирика.
Морвилье, до сих пор излучавший довольство, внезапно нахмурился.
Фромон встал перед судейским возвышением. Его попросили назвать имя, звание и принести присягу.
– Сильвестр Фромон, двадцать пять лет, уроженец Парижа, секретарь мэтра Гийома Фише, ректора парижского университета.
– Можете ли вы указать в этом зале человека, которого вы видели возле двери ректора восьмого июня в полдень? – спросил Фавье.