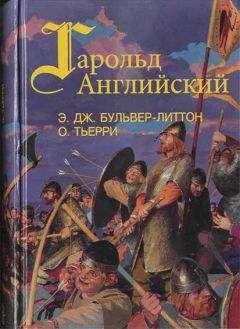Одо подошел к таинственному ларчику и проговорил отрывисто:
– Ты клянешься исполнить, насколько то будет в твоих силах, уговор свой с Вильгельмом, герцогом Нормандии, если будешь жив и небо поможет тебе. В залог своей клятвы положи руку на этот меч.
Все это так неожиданно обрушилось на графа, ум которого, как мы уже сказали, был от природы не так быстр, как наблюдателен и практичен; смелое сердце его было так отуманено хитростью герцога, мыслью о неизбежной гибели Англии, если его долго задержат в плену, что он почти бессознательно и будто во сне положил руку на меч и машинально повторил:
– Если буду жив и небо поможет мне!
Все собрание повторило тожественно:
– Небо да пошлет ему свою помощь!
Мгновенно по знаку Вильгельма Одо и Рауль де-Танкарвиль сняли парчовый покров, и герцог приказал Гарольду взглянуть.
Как пред человеком, спускающимся из золотой гробницы в страшный склеп, открывается ужасное безобразие смерти, так было и с Гарольдом, когда сняли покров. Под ним были собраны бренные остатки многих известных святых. Гарольд вспомнил давно забытый сон, как копошились вокруг него и бесновались кости мертвых.
«Увидев это страшное зрелище, – говорит нормандский летописей, – граф побледнел и вздрогнул».
– Страшную клятву произнес ты, и естественно твое волнение, – заметил герцог, – мертвые слышали твою клятву.
Уважаемый всеми Альред был вызван к Эдуарду, который заболел в отсутствие Гарольда. Этой болезни предшествовали предчувствия бедственных дней, которые должны были постигнуть Англию после его кончины; и король вызвал Альреда, чтобы просить совета и сочувствия.
Альред сидел один по возвращении из загородного геверингского дворца и думал о беседе своей с Эдуардом, которая сильно его встревожила. Вдруг дверь кельи быстро отворилась, и в комнату вошел, оттолкнув слугу, хотевшего доложить о нем, человек в запыленном платье и с таким расстроенным видом, что Альред сначала принял его за незнакомца и только при звуке его голоса узнал в нем графа Гарольда. Заперев дверь за слугой, Гарольд несколько минут простоял на пороге; он тяжело дышал и напрасно старался скрыть страшное волнение. Наконец, как будто отказавшись от бесплодных усилий, он бросился к Альреду, обнял его колени, склонил на них голову и громко зарыдал. Старик положил руки на голову графа и благословил его.
– Нет, нет! – воскликнул граф с порывистым движением. – Подожди благословлять, выслушай все сначала и потом скажи, какого утешения я могу ожидать...
И Гарольд рассказал историю, уже известную читателям. Потом он продолжал:
– Я очутился на открытом воздухе, но не сознавал ничего, пока меня не стало палить солнце. Мне показалось, будто демон вылетел из моего тела. Неужели нет оправдания клятве... вырванной насилием?... Я лучше буду клятвопреступником, чем предателем родины!
Альред побледнел во время рассказа Гарольда.
– Слова не могут запрещать или разрешать, – проговорил он тихо, – это власть, вверенная мне небом... Что же ты сказал потом герцогу после твоей присяги?
– Не знаю ничего! Помню только, что я ему сказал: «Теперь отдай мне тех, ради которых я оказался в твоих руках, и позволь вернуться на родину с Хаконом и Вульфнотом»... И что же ответил мне коварный нормандец с огненным взглядом и змеиной улыбкой? Он сказал мне спокойно: «Хакона я отдам тебе, потому что он сирота и ты едва ли стал бы особенно печалиться о разлуке с ним, но Вульфнота, любимца твоей матери, я оставлю себе в качестве твоего заложника. Он нужен мне как залог твоей верности». Я пристально взглянул ему в лицо, и он отвернулся. «Об этом не было упомянуто в нашем договоре», – сказал я. На это Вильгельм ответил: «В договоре не было упомянуто это обстоятельство, но оно скрепляет его». Я повернулся к Вильгельму спиной, подозвал Вульфнота и сказал ему: «Из-за тебя прибыл я сюда и не намерен уехать без тебя, садись на коня и поезжай рядом со мной». Но Вульфнот ответил: «Нельзя так поступить! Герцог сообщил мне, что заключил с тобой какой-то договор, в силу которого я должен остаться у него в качестве твоего заложника. Скажу тебе откровенно, что Нормандия стала моей второй родиной и что я от души люблю Вильгельма». Я вспылил и начал бранить брата; но на него не действовали ни угрозы, ни мольбы, и я убедился, что сердце его не принадлежит более Англии... «О матушка, как покажусь я тебе на глаза?!» – думал я, возвращаясь сюда только с Хаконом... Когда я снова вступил на английскую землю, мне показалось, будто в горах перестал предо мною дух моей родины и что я слышал его голос в завывании ветра. Сидя на коне и спеша сюда, я вдруг узнал, что есть посредник между людьми и небом; прежде я преклонялся менее ревностно перед верховным судилищем, а теперь я преклоняюсь пред тобою и взываю к тебе: или позволь мне умереть или освободи меня от моей клятвы!
Альред поднялся.
– Я мог бы сказать, – ответил он, – что Вильгельм сам избавил тебя от всякой ответственности тем, что удержал Вульфнота в качестве твоего аманата, помимо вашего договора; я мог бы сказать, что даже слова клятвы: «Если то будет угодно Богу» оправдали бы тебя... Богу не может быть угодно отцеубийство, а ты сын Англии. Но прибегать к подобным уверткам было бы низостью. Ясен тот закон, при котором я имею право освобождать от клятвы, закон, гласящий, что гораздо грешнее сдержать клятву, обязывающую совершить преступление, чем преступить ее. На этом основании я освобожу тебя от клятвы, но не от греха, тобой совершенного... Если бы ты больше полагался на небо и верил бы меньше в силу и разум людей, то не сделал бы этого – даже во имя родины, о которой Бог печется без тебя... Итак, освобождают тебя именем Бога от данной клятвы и запрещаю выполнять ее. Если я преступаю данную мне власть, то принимаю всю ответственность на свою седую голову... Преклоним же колени и помолимся, чтобы Бог разрешил тебе загладить свое минутное заблуждение долгой жизнью, наполненной любовью к ближнему и соблюдением долга.
* * *
Желание Гарольда выслушать приговор из уст мудрейшего и вернейшего служителя Бога совершенно вытеснило из его души все остальные мысли. Если бы Гарольду было сказано, что его клятва нерушима, то он скорее лишил бы себя жизни, чем изменил отечеству. Он считал себя проклятым, пока Альред не снял с него это страшное бремя. Получив освобождение, он как будто воскрес и начал снова интересоваться жизнью. Но с этого мгновения он признал все ничтожество человеческого разума и смирился с сознанием своей полной виновности. Как часто молил он теперь Создателя сделать его ненужным родине, чтобы он мог, подобно Свейну, искупить свой поступок и примириться с совестью!
Приезд Гарольда стал вскоре известен всему Лондону, и к нему начали стекаться все его друзья, давно уже горевшие нетерпением увидеться с ним. Каждый из них сообщал новости, которые ясно доказывали, что во время его отсутствия связи государства сильно ослабели. Весь север был вооружен; нортумбрийцы выступили против Тости, опять проявившего свой дурной характер, и прогнали его, а он скрылся от них неизвестно куда. К бунтовщикам присоединились сыновья Альгара, из которых старший, Моркар, был избран на место Тости.
Здоровье короля становилось все хуже. Он страшно бредил, а слова, вырывавшиеся у него во время бреда, передавались из уст в уста, конечно, с различными преувеличениями и вызывали у всех самые мрачные опасения.
Все ожили, услышав о возвращении Гарольда, веря, что он мигом восстановит в государстве прежний порядок.
Естественно, что он, видя, как твердо надеется на него народ, стряхнул с себя гнетущие воспоминания и опять всецело посвятил себя общественным интересам. Ум его снова заработал, и к нему вернулась прежняя энергия. Он ободрил своих опечаленных друзей, отдал приказания, разослал гонцов во все направления и только тогда поскакал к королю в Геверинг.
Этот дворец, весь утопавший в зелени и цветах, был любимым местопребыванием Эдуарда. Есть предание, будто он тут однажды ночью во время молитвы был сильно смущен пением соловьев и, раздосадованный, стал просить Бога прекратить это пение, и с этой самой минуты никто и никогда не слышал в Геверинге соловьиного пения.
Гарольд, выехав из леса, пестревшего всеми цветами осени, очутился вскоре перед низкими, незатейливыми воротами дворца, сплошь покрытыми вьющимися растениями, и через несколько минут уже входил к королю.
Эдуард с усилием приподнялся на постели, стоявшей под прекрасным резным балдахином, на котором был изображен весь Иерусалим.
Он поспешил удалить начальника стражи, стоявшего у его изголовья, и проговорил слабым голосом, подчеркнувшим страшную перемену в его внешности.
– Наконец-то ты вернулся, Гарольд, чтобы поддержать эту ослабевшую руку, которая скоро выронит навсегда земной скипетр... Молчи! Я чувствую, что это непременно случится и радуюсь... – Он пристально взглянул на Гарольда, лицо которого было бледно и печально, и продолжал: – Ну, ты, самонадеянный человек, доволен ли ты результатами своей поездки или убедился в справедливости моего предсказания?