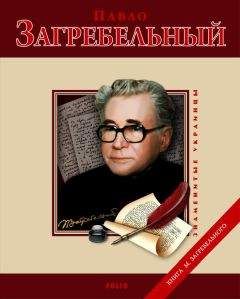Евпраксия не чувствовала за собой никаких грехов. Даже дикое подозрение императора насчет Конрада не могло нанести ущерба молодой женщине, она лишь удивлялась молчанию аббата Бодо: ведь был их, с Конрадом, спутником, видел, знал правду, почему же не сказал императору правды о его сыне и жене? Почему не опроверг подозрения, не отбросил наговора? Где же тогда святыни душевные?
Так рождалось в ней отвращение ко всему, что исходило от аббата Бодо.
Отбрасывала принесенные им книги, снова на целые недели застывала у окна, почти не спала, забывала о еде, вгоняла в плач добросердечную Вильтруд.
Помимо воли начинала считать камни, которыми вымощены были замковый двор и дворцовые гульбища, потом – вокруг дворца, на улице, что вела к мосту через Адидже, на всех улицах Вероны, во всех городах Италии, в руслах высохших от зноя потоков и рек, на морских побережьях. Когда ее отрывали от этого счета, она испытывала отчаяние, переживала почти страдание. В числах было забвение, иногда успокоение, порою тревога. Число "тысяча" вселяло в душу Евпраксии ужас, поэтому избегала его, доходила в подсчетах только до ста, затем складывала, громоздила их в сотни сотен, сотни сот сотен и еще… и так без конца, до полнейшего обессмысливания своего странного занятия, которое помогало убивать время – страшнейшего врага всех заключенных.
Продержаться во времени и сохранить в себе все лучшее, что ты имела.
Духовное превосходство, даже наказанное, все равно остается превосходством.
Для чего только может понадобиться твое превосходство и совершенство, когда тебя оторвали от жизни, да еще такой молодой, в самом расцвете сил?
Дорога, по которой не ездят, зарастает травой и кустами.
Но как невыносимо тяжело ни жилось ей, какое отчаяние ни терзало иногда сердце, Евпраксия хотела жить, надеялась без надежд, ждала, сама не ведая чего. Она утешала себя снова и снова: несвободен человек, лишь когда он порочен; пороки же рождаются незнанием; поэтому глупость и безрассудство – худшие из пороков; точно так же важнейшими добродетелями следует считать мудрость, рассудительность, твердость разума, спокойствие духа. В этом человек может достичь блаженства.
…А блаженство-то дается только жизнью, при жизни! Крылатые кони смерти, куда и зачем вы торопите бег?!
Жить! Она хотела жить! Должна была жить!
Невыносимая боль души вызывалась чем-то самым простым: голосом ветра, лучом солнца, человеческим криком, свистом птичьего крыла. Привыкала и не могла привыкнуть ко всему, что открывалось взгляду с высоты башни.
Неистовые рассветы в горах, а заход солнца – будто конец света. Неистовые танцы горячих сухих ветров вокруг башни, а где-то в долинах – влажная прохлада и шелест пшеницы. Часто сизоватая мгла окутывала леса и горы, и каждый раз это казалось удивительным.
Все стены башни были исцарапаны надписями. Человек, овладев уменьем писать, уже не в состоянии остановиться. Это похоже на какую-то приятно зудящую болезнь. Человек пишет, стремится хотя бы частично передать ту огромность жизни, которая сваливается на него и в которой не всегда он способен найти смысл. Человек пишет – тут и неудержимая радость, и гнетущая печаль, и мудрость, и острая дерзость, и тупая дурь, и смешная похвальба. Писанием свидетельствуешь о своей неотрывности от мира и одновременно борешься против одиночества. Разговариваешь с людьми, с ветрами, с небом и с камнем – особенно, когда ты брошен внутрь каменного столпа, закован, заточен в камень. Сколько душ рвалось отсюда, из этого столпа-башни, рвалось на свободу, а может, и на смерть, отчаянно выцарапывая на твердом камне свои имена, знаки креста и ведомых лишь им заклятий, и переходили в вечность, может, только этими царапинами, которых никто никогда не прочтет, не заметит, а если и заметит, то все равно не поймет.
Алмазом на императорском перстне Евпраксия старательно и терпеливо процарапала у окна, так, чтобы можно было прочесть: "Евпракс…" Хотела написать еще "Адельгейд", но в этом имени, к которому она так и не сумела привыкнуть, слышалось что-то неприятное, какое-то бульканье. Имя, словно у утопленника.
Лучше всего просто бы написать – "Пракся". Так звали ее маленькой, так звала Журина, звал Журило и брат Ростислав, правда, ни сестра Янка, ни брат Владимир не произносили это имя, а только лишь греческое – "Евпраксия", потому что оба они были от греческой царевны, о чем никогда не забывали.
"Пракся"… Нет, Пракся здесь не годилась. Никто никогда не поймет, что это за слово и какому языку принадлежит, а для самой Евпраксии оно, пожалуй, вовсе заказано: вызовет воспоминания о давнем; а с ними и болезненные чувства, которых уж лучше постараться избегнуть. Киев был далеко, он молчал; злой на князя Всеволода за его нежелание присоединиться к римской церкви, император не посылал в Киев послов, да и князь Всеволод не посылал своих послов к императору, не нуждался в том, а о собственной дочери, как видно, забыл за государственными хлопотами; все властители, выходит, заботятся прежде всего о делах государственных; странные заботы, будто государства населяют не живые люди, а некие тени и будто князь или там король всевластны над ними, между тем ведь и сами короли, князья, императоры, как убедилась Евпраксия, не что-либо иное, но тени, именно тени, которые к тому же не только ничего общего не имели с живой жизнью, а вообще были враждебны к ней.
Из всех людей, оставленных в Киеве, для нее двое истинно живые:
Журило и воевода Кирпа. Не знала, разбирается ли Кирпа в письме, потому вынужденно ограничивалась одним Журилой в минуты, когда было особенно тяжко на душе, когда ни читать, ни смотреть в окно, ни спать не могла и, не зная, куда деваться, писала Журиле письма. Не настоящие письма, не пергаментные хартии с печатями императрицы германской на красном воске, двусторонними печатями, с так называемой контрасигиляцией. То были письма, ни разу не отправленные, вроде бы и не писанные. И в самом деле не писанные, отправлять было нечего. Письма в уме. Короткие и странные, понятные только им двоим, а иногда – одной Евпраксии.
"Весна кончается, и плачут птахи. А может, я то плачу?"
"Когда утопает колокол, утопает и эхо от него".
"Зачем летает воронье над башней?"
"Однолист – слыхал ты про такое растение? А еще есть одолень. И есть приворотное колдовское зелье, называемое anacampserum. Рассказывают, что один супруг задумал убить супругу свою и повел ее в лес, а она, идучи рядом с ним, сорвала этого зелья и держит себе в руке, и вот он потерял свое злое намерение. Так было и во второй, и в третий раз".
"Солнце высушило майские дожди".
"Как посылали богу весть о своей жизни, так муж снарядил сокола-винозора и тот сразу долетел. А женщина послала сову. Но сова-медлюха пустится в путь ночью, а ночь и прошла, уже день. Сова – хлоп на землю и спит себе. Под вечер схватывается, летит, летит ночь, а начнет светать – опять одолевает ее сон. Так весточка и до сих пор не долетела".
"Сверчок отсчитывает время, и я со страхом думаю о седых волосах".
"Помнишь, как вместе смотрели на снег? И в этом году он, наверное, снова упал на Киев".
"Я грущу в глухую осень".
"Когда-то мы с тобой были в Софии на княжьих хорах и что-то нацарапали на стене. Что мы там писали? Прочитай, Журило!"
Как раз, когда Евпраксия впервые почувствовала себя тяжелой, в Бургундии, в замке рыцаря Тесцелиана Фонтень, жена рыцаря Алета почувствовала то же самое, но, как напишет впоследствии об этом монах Вильгельм, "ей приснилось предзнаменование будущего, а именно: что она заключает в утробе своей белую собачку с рыжеватой спинкой, и собачка лает". Напуганная сном, Алета обратилась к своему духовнику, но тот успокоил ее, к случаю припомнив малопонятные слова Давида, обращенные к богу и говорящие о неграмотных, но неуступчивых пророках божьих: "Чтобы полоскал ты ноги свои в крови врагов своих, а языком псов твоих тоже была часть крови сей". Духовник сказал женщине: "Не бойся: это хорошее предзнаменование, ты будешь матерью знаменитой собаки, что станет стражем дома господнего и примется громко лаять на врагов веры. То будет прославленный проповедник и, яко добрый пес, целительными свойствами языка своего вылечит многие болезни души у многих".
Сын Евпраксии, зачатый в муках, умер: слишком был слаб, едва родился, тут же и ушел из мира.
Рыцарская жена в Бургундии произвела своего сына на свет в тот самый день, что и германская императрица, и рыцарский сын выжил, хотя и никчемный по природе своей. Назвали его Бернардом. Имя избрали ему такое, видимо, потому, что многие ныне имена святых уже стали именами-покровителями разных ремесел и занятий. Бернард ничему не покровительствовал, а вот Георгий (Юрий) был покровителем рыцарей, воинов, Иоанн и Августин – теологов, Козьма и Дамьян – лекарей, Екатерина – философов, ораторов и поэтов, Лука – художников, Цецилия – музыкантов, Фруменций и Гидон – купцов, Григорий – студентов, Варвара – зодчих, Юлиан – влюбленных. От эпидемии оберегали святые Антоний, Рох, Себастьян, Адриан и Христофор, от падучей – Валентин, от лихорадки – Петронелла, от боли зубной – Аполлония, от камней в почках – Либерий.