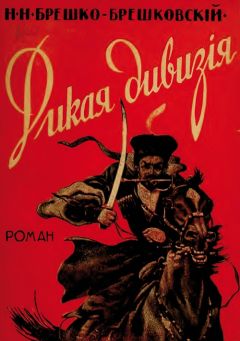Тугарин, не смыкавший глаз, как-то почерневший за ночь, решительный, выяснил наличность патронов. На каждого всадника осталось по одной обойме. Можно еще держаться. Но красноречивее этих обойм для Тугарина было настроение ингушей, бодрое, приподнятое. Он пытливо всматривался в смуглые, как и у него, почерневшие лица — ни уныния, ни подавленности, ни отчаяния. А ведь положение всех этих людей почти безнадежное. На исходе патроны, на исходе вода, весь хлеб съеден.
Тугарин со старым ингушем и Алексеенко держал военный совет.
— Единственное спасение, — сказал Тугарин, — это дать знать в Базоркино. Ингуши сейчас же примчатся на выручку. Алексеенко, ты лихой старый пограничник. Можешь сделать вылазку, когда стемнеет?
— Так что, ваше высокоблагородь, тут в подвалах есть вольная одежа симоновских приказчиков — зипуны, тулупы. Переоденусь — и айда! В Базоркино восемь верст. Живо смотаюсь. Сотни шашек довольно разогнать эту шатию.
Алексеенко, сняв с себя черкеску и оставшись в одном бешмете, надел сверху мещанский зипун и был готов к вылазке. Чтобы возможно лучше обеспечить ему вылазку, Тугарин приказал бросить в осаждающих несколько ручных гранат и сделать из слуховых окон чердака пять-шесть выстрелов.
Терцы отхлынули, очистив на значительное расстояние улицу и унося с собою раненых. И вот тогда-то, воспользовавшись этим, выпущенный из симоновского дома вахмистр пополз в темноте. Но, увы, находившиеся в сотне-другой шагов осаждающие заметили его и открыли огонь. Раненный пулей в ногу Алексеенко все же переполз улицу и, уже очутившись под прикрытием домов, побежал вдоль пустынных кварталов; и только на самой окраине города он сошел к журчавшему Тереку, промыл и перевязал свою, хоть и неопасную, но стоившую немалой потери крови, глубокую царапину…
А в симоновском доме ничего этого не знали и были уверены, что Алексеенко убит и погиб и ждать спасения неоткуда. Если же оно и придет когда-нибудь, то будет уже поздно и все защитники маленькой импровизированной крепости успеют превратиться в собственные тени от голода, нечеловеческого переутомления, бессонницы, голода и жажды…
МАЛЕНЬКАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ В БОЛЬШОМ СВЕТЕ
Прошло десять лет.
В чудовищном вихре метались и кружились события.
Давным-давно успели отгореть последние огни белого освободительного движения. Горсть добровольцев и казаков согнулась, но не сломалась в непосильной, титанической борьбе с неисчерпаемым пушечным мясом Третьего Интернационала.
Врангель вывез из Крыма остатки русской армии. А через несколько лет сам Врангель, все еще опасный большевикам, опасный даже в изгнании, был тонко и сложно отравлен ими.
Несчастная Россия пережила за это время эпоху военного коммунизма, когда матери, голодные, обезумевшие, пожирали своих младенцев и когда в застенках ЧК расстреливались тысячи русских людей, тысячи, неумолимо выраставшие в миллионы.
И за все десять лет два, только два одиноких выстрела прозвучали в ответ на миллионы подлых убийств. Да, только два выстрела в эмиграции. Один в Женеве — по Воровскому; другой в Варшаве — по свирепому палачу царской семьи Войкову. На два миллиона русской эмиграции только и нашлось двое энтузиастов-мстителей — Конради и Коверда.
Первый был оправдан швейцарским судом, второй, юноша, даже мальчик, угодливо-трусливым польским судом приговорен был к пожизненной каторге.
А за это время, и даже не за это время, а в течение двух лет, армянская молодежь успела перебить в разных городах Европы весь турецкий кабинет министров, повинных в резне турецких армян.
Зато советские министры и дипломаты свободно разъезжали по всему свету, вручали верительные грамоты свои королям и президентам, участвовали в международных конференциях, и никто, никто не покушался на их драгоценную жизнь.
Русская эмиграция разбрелась по всему миру, но главное ядро ее осело во Франции, преимущественно в Париже. Одним удалось вывезти с собой много ценностей. Приумножая их, они стали богаты. Другим посчастливилось разбогатеть из ничего, но как те, так и другие позабыли родину и, не давая ни гроша на русское дело, допытывались:
— Когда же мы вернемся? Когда же все это кончится?
А те, кто свое здоровье и молодость отдали сначала Великой, потом Гражданской войне, работали у заводских станков, разъезжали шоферами в такси, дежурили ночными сторожами и, помня о России, из скудных грошей своих уделяли на террористические организации внутри Совдепии, и на русский Красный Крест, и на русских инвалидов.
В Париже очутились наши старые знакомые, связанные и прямо, и косвенно с Дикой дивизией.
Всплыл, и довольно видной фигурой всплыл, барон Сальватичи. Годы сказались. Еще более помятым было лицо его с ястребиным профилем и голым черепом. Фигуру же сохранил бодрую, крепкую. Не мог разрушить ее кокаин, к которому он прибегал все чаще и чаще.
Жил Сальватичи в комфортабельной квартире возле парка Монсо, но значительную часть дня проводил в особняке на другом берегу Сены.
Этот особняк, снятый им у одной герцогини, он отвел под лечебницу для желающих похудеть. Пациенток своих, полных аргентинок, египтянок, главным образом представительниц экзотических стран, Сальватичи принимал в белоснежном халате, имея ассистентками двух дам врачей и нескольких сестер милосердия.
В русских кругах говорили, что эту лечебницу Сальватичи создал для отвода глаз, дабы вместе с нею создать и свое собственное положение в столице мира. Лечебница — это официально, неофициально же доктор Сальватичи — видный агент Москвы и получает громадные суммы на предмет сыска и разложения эмиграции. Преследуя обе эти цели, он субсидирует некоторые ночные рестораны и одну кинофабрику.
Жил, и широко жил, бывший адъютант Чеченского полка Тапа-Чермоев. Под свои нефтеносные земли на Северном Кавказе он получил большие миллионы от английских трестов, ждавших, что после падения советской власти Чермоев будет вновь фактическим собственником своих участков, фонтанами брызжущих в воздух "жидким золотом".
Одно время "отец чеченского народа" нанимал в Пасси "исторический" особняк, принадлежавший знаменитой танцовщице Дели-Габи, знаменитой тем, что она была подругой Мануэля, короля португальского, из-за нее поплатившегося своим троном. Это она, Дели-Габи, ввела в свое время в моду "танец медведя", прообраз много позже воцарившегося чарльстона. Миллионы не задерживались у Чермоева. На его счет жило около восьмидесяти родственников, и он раздавал деньги всем, кто к нему обращался за помощью.
Адъютант Черкесского полка Верига-Даревский занимал хорошее место в одном из банков, потом его перевели в Лондон, а затем он уехал в Варшаву.
Адъютант Ингушского полка Баранов, Георгиевский кавалер, в нескольких войнах получивший несколько ран и контузий, служил ночным сторожем в большом доме на Елисейских Полях, где помещается контора газеты "Пти Паризьен".
Принц Наполеон Мюрат, в Карпатах отморозивший себе ноги, потерял их окончательно и передвигался в тележке. И Мюрата, и его тележку знала вся Ницца. Он жил переводом книг с русского на французский. Так угомонила судьба этого силача, наездника, бретера и доблестного боевого офицера.
Забросило в Париж еще целую фалангу офицеров славной Дикой дивизии: князя Бековича-Черкасского, двух князей Амилахвари — Алика и Гиви.
Насаждали цыганское пение на берегах Сены ротмистр Багрецов и поручик Миша Толстой, сын великого писателя земли русской.
А племянник этого писателя, Андрей Берс, служивший в Чеченском полку, держал ночной ресторан "Кунак". Весь Монмартр знал и рослую фигуру Берса, и его лицо Чингисхана, и его неизменную черкеску, и рыжую папаху. На фоне Монмартра описал его Жозеф Кессель в своих "Княжеских ночах".
Романист-балетоман Светлов, весь седой, но крепкий и бодрый, несмотря на жестокую контузию, уже несколько лет был администратором балетной школы знаменитой балерины императорских театров Трефиловой.