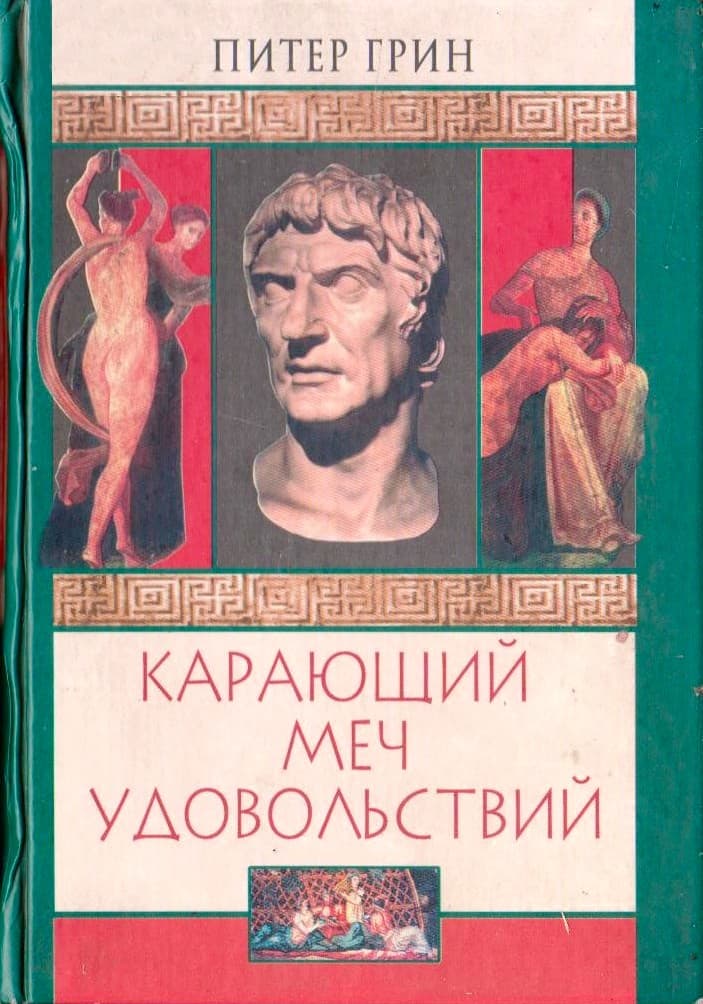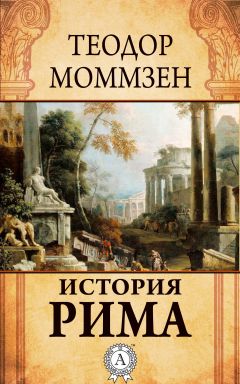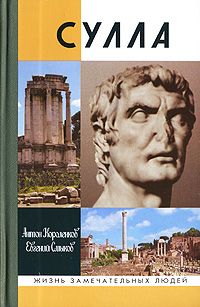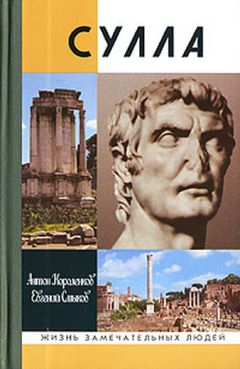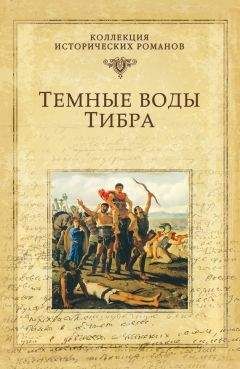приличия. Только я один знал, как близко она была к тому, чтобы их нарушить. Хотя мои офицеры относились к ней с некоторой сдержанностью, она скоро стала пользоваться любовью простых легионеров. Она выпивала с ними, посещала их заставы и выслушивала их личные заботы. Они восхищались ее грубым юмором и испытывали благоговейный страх перед ее происхождением. Нашим детям была на пользу жизнь на открытом воздухе, и солдаты с невысказанной любовью обожали их: частенько, когда я заходил в павильон, предназначенный для них, то находил какого-нибудь старого, израненного легионера, заглядывающего в их колыбель, в то время как нянька стояла рядом и нервничала.
Но однажды шут Аристиона, увидев нас идущими вместе через линии от стен на расстоянии выстрела из лука, решил испытать на нас юмор более личный.
— Вы только на нее посмотрите! — орал он, чуть не сорвав себе голос. — Только посмотрите на благородную шлюху полководца!
По всем редутам прошелся шепот, а Метелла усмехнулась себе под нос.
— Прекрасная пара, за которую стоит сражаться, — слышался его визгливый, злой голос. — Павшая аристократическая сука и мятежник-выскочка. До чего дошел Рим! Посмотрите на них! Сколько из вас поскакало на этой остриженной кобыле?
Он, ухмыляясь, подпрыгивал на стене.
— Твоим детям досталось по наследству твое прекрасное лицо, полководец? — гоготал он. — Или тебе наставил рога какой-нибудь центурион?
Метелла замерла на месте, только мускул задергался чуть ниже ее скулы.
— Сулла — смоквы плод багровый, чуть присыпанный мукой! [109] — вопил шут.
Рядом со мной лучник неожиданно направил свой лук на крошечную грязную фигурку. Я ударил его по руке.
— Нет, — сказал я. — Этот человек мой. Никто и пальцем его не тронет, вы меня слышите?
Мой голос в гневе сорвался на крик.
— Когда мы возьмем Афины, вы должны привести мне его живым и невредимым. Если он будет убит, я казню того, кто наложил на него руки.
— Тебе сначала придется меня поймать, Сулла! — вопил шут. — Прежде чем убить меня, тебе сперва придется взять Афины!
Он издал какое-то улюлюканье и исчез. Никто из солдат не заговорил и не смотрел на нас, когда мы возвращались назад к моей палатке. И я был им благодарен.
Через две ночи один из моих центурионов подошел ко мне, как раз когда я собрался лечь в кровать, и сказал, что подслушал разговоры каких-то стариков на стенах, когда патрулировал внешний Керамик. Он сказал, что они осуждали Аристиона.
— И ты пришел сюда в это время ночи, чтобы сообщить мне об этом?
— Нет, господин. Они говорили, что в стене есть слабое место между Двойными вратами [110] и Пирейскими воротами. Они жаловались, что Аристион не чинит и не охраняет это место.
Мгновение я не мог поверить своим ушам. Я смотрел на это грубое, безразличное лицо при свете лампы.
— Ну, — наконец я выдавил из себя, — ты проверил стену? Они говорили правду?
— Да, господин. Позади одной из наблюдательных башен, которая наполовину обвалилась, есть участок протяженностью в пять ярдов. Отсюда его не видно.
Он мог бы с таким же успехом сообщить мне то, что входило в обязанности охраны.
Я застегнул на талии пояс для меча.
— Веди меня туда!
— Прямо сейчас, генерал?
В первый раз на его лице появилось удивление.
— Да, прямо сейчас. Ты, похоже, не понимаешь, что, возможно, лично выиграл нам эту кампанию.
Центурион сдвинул свой шлем на затылок и глупо осклабился.
Мы штурмовали пролом в полной темноте, трубы ревели, люди сыпали проклятиями, с трудом карабкаясь по лестницам. На этот раз не было никаких стрел, лишь несколько изможденных голодом защитников на стенах, с которыми покончили через десять минут. Я шел с первыми когортами. Мы ворвались в Афины.
Внизу в темных узких улицах я услышал дикие крики и топот ног, когда до них докатился сигнал тревоги. Замерцали и двинулись в нашем направлении факелы. Мои легионеры сотнями роились позади меня. Я стоял и наблюдал, как они с воплями шли в атаку. Им была дана свобода грабить, если они того хотят, — они слишком долго ждали этого момента. С другой стороны, я решил, что город поджигать не нужно. Афины, в конце концов, исторический город, а я питаю сентиментальное уважение к традициям.
Все было кончено за три часа. Когда забрезжил рассвет, последние отставшие были окружены и приведены ко мне на Агору [111]: небритые, изъеденные цингой, почти скелеты. Только Аристион со своей охраной скрылся: они забаррикадировались в Акрополе. Я мог позволить себе быть терпеливым: их запасы продовольствия не продлятся вечно.
Какой-то центурион подошел ко мне, одной ногой поскользнувшись на густой крови, заливающей каменные плиты, все еще держа меч в руке. Он жестом указал на жалкую кучку пленников.
— А с этими что мы будем делать, генерал? — спросил он.
Я заколебался. Прежде чем я успел ответить, один из моих младших офицеров, юноша лет около двадцати, взял меня за рукав и сказал:
— Думаю, ты должен это видеть, генерал.
Он выглядел зеленым и больным.
Солдат выступил вперед. В его руках был сверток, завернутый в грязную тряпку. Он его развернул. Как ни ужасно, но все же полузажаренное мясо внутри явно было человеческой рукой.
Я задохнулся от отвращения и гнева и с трудом выговорил:
— Делайте с этими людьми что хотите. Они ваши. Если до наступления сумерек в этом городе не останется ни одной живой души, это будет им по заслугам.
Тогда я направился туда, где два легионера держали придворного шута Аристиона, его глаза закатились от ужаса. Аристион, должно быть, бросил его, когда удирал в Акрополь: одним бесполезным ртом меньше.
— Отпустите его! — приказал я.
Они освободили его руки, и шут свернулся на земле, словно кролик. Он не двигался и не делал никаких попыток защищаться. Я задушил его на глазах своих солдат — он немного покричал, и только.
В тот день в Афинах я видел то, что до сих пор считал простой поэтической гиперболой: город тонул в крови. Мои отряды убивали пленников до полудня, и тяжелый, вязкий, алый поток стекал вниз по желобам Керамика. В воздухе стоял удушающий тошнотворный запах скотобойни, а коршуны и стервятники парили в небе. Крики умирающих людей смешивались со сдавленными воплями их женщин и детей. Афины искупали свою вину архаичным способом, который так хорошо понимал Эсхил.
Но гнев, как я понял, является более преходящим чувством, чем амбиции, и осуществление мести скоро теряет свое изначально жестокое удовольствие. Оно, кроме