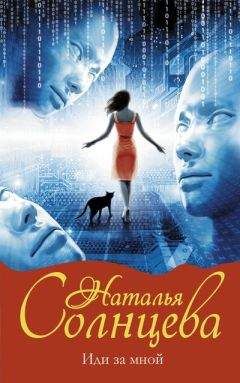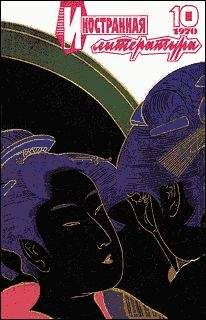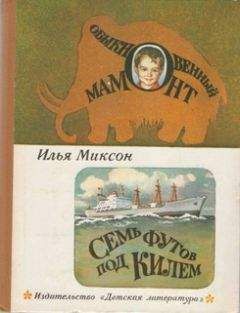— Стишки читал. Про ландыши. Перстенек подарил. Во, Сережа, во.
На мизинце Вирки, лукаво оттопыренном, поблескивало колечко с камушком.
— Ты, говорит, Виринея, жгучая блондинка. У меня, говорит, серьезные намерения. Думает, я духовного звания, если в епархиальном учусь! Я его не разочаровала. Говорю, мой папенька протоиерей из Устюга, награжден, говорю, наперсным крестом с бриллиантами, в гостиной у нас паркет и на шкуре белого медведя пианино от Беккера… Ох, попенок возликовал! Уж он пел и пел:
Епархиалки — серенькие юбочки,
Семинаристы — черти,
Да любят вас до смерти…
Семинарист приближался со стороны пустырей. Он был неотразим. Подавлял и ослеплял — шляпой с широкой лентой, крахмальной манишкой, галстуком-бабочкой, шикарным жилетом и сверкающими штиблетами.
Три прыжка — и путь франту прегражден.
— Чего возникаешь? Чеши отсюда. Кутьей навонял — картошка вянет!
Франт надвинулся грудью. Был он розовый, упитанный. На верхней губе и подбородке черные волосики.
— Мальчик… — голос у него елейный, сладкий до приторности. — Мальчик, ты умывался нынче? Штаны… штаны поддерни — сваливаются! Подтяни штаны, я тебя умою, мальчик. — И рявкнул: — Это ты нюхал?..
Ничего не скажешь, кулак у него, что надо.
Бились по-модному, боксом. Противник молотил кулачищами: сила есть, ума не надо. Как я ни увертывался, напоролся на удар. Вмиг глаз заплыл. Врезал и я — левой под челюсть. Семинарист обалдел, я это видел. Врезал ему еще… Еще! На, лови, пока дают! Получай за поцелуй в пяти частях!
Шикарная шляпа слетела, голова семинариста болталась. Я его теснил, теснил и последним ударом наконец-то опрокинул. Падая, дылда задом плюхнулся в корыто. В корыте Вирка разводила навоз — поливать овощи.
Брызги вонючей жижи. Виркин заливистый смех…
Победителем, руки в брюки, развалистой походкой я покидал поле славного сражения. Я торжествовал и дрожащей ладонью ласкал синяк, затягивающий глаз.
Волосы Вирки горели, как пламя. Глаза были круглые, зеленые, как крыжовник, и испуганные.
— Сережа! Сережа, нагнись!..
Очнулся я возле корыта.
Повергнутый в честном бою семинарист влепил мне камнем — в спину, вражина! — и угодил по затылку.
— Сереженька, ты жив? — плакала Вирка. — Тебе полегче?
Мне было плохо. Не оттого, что досталось камнем. Подумаешь, разве в первый раз?
Я чувствовал себя предателем. Семинариста, спору нет, следовало проучить. Хотя бы за штиблеты: пускай не задается. Однако, заступившись за Бирку, я тем самым… Как это выразиться? Подал ей надежду, хотя не имел на это никакого права.
Влюблен я… Да не в Вирку, рыжую епархиалку…
Вот так. Был я в те дни своим занят и не знал, не догадывался, что в городе готовятся события, которые коснутся меня больше, чем кого бы то ни было.
Всего четыре месяца миновало, как это здание, сосредоточие власти над громадным краем, Простершимся от отрогов Урала до Норвегии и от ельников Вычегды до вечных полярных льдов, подняло красный флаг… С опозданием, в преддверии весны 1918 года в губернии установились Советы. Север, край земли! Зимою лишь нить Вологодской железной дороги да гудящие провода телеграфа соединяют Архангельск с остальной страной. Это летом, в навигацию, Архангельск связывает Россию с целым светом…
Из приемной председателя губисполкома гурьбой вывалили люди, кто в рабочих куртках, косоворотках, кто во флотских форменках, солдатских гимнастерках: кончилось заседание.
— Метелев, задержись, — окликнул одного Павлин Виноградов.
Они поздоровались.
— Я из Солзенской бухты… — очки Виноградова сверкнули. — Настоящая банда! Привез пленных: десять солдат и офицер. Поголовно британцы. Из группы полковника Торнхилла. Разведывают подходы к железной дороге. Я не уверен, что лазутчики этой группы уже не разглядывают в бинокли пакгаузы Исакогорки! — Взяв Метелева под руку, Павлин увлек его к окну. — Опоздал на твой отчет, проинформируй хотя бы накоротке, как в Москву съездилось.
Метелев молчал, обминал папиросу. Прикурил и спичку резко отбросил.
— Ярославль? — посуровел Павлин.
— Мятежники не выбиты из города, — кивнул Метелев. — Месяц как дорога на Москву по сути дела парализована. Попытки взрыва мостов, диверсии… Так-то нынче путешествовать! Попали, однако в столицу. Там, знаешь, тяжело. Заводы стоят. Паек впроголодь. Мобилизации на фронты. Тут еще эсеры — левые, правые… Черт их разберет! Случайно ли ярославская заваруха по времени совпала с боями в Москве? Был арестован Дзержинский, мятежники обстреливали Кремль из орудий. Добавь, Павлин, для полноты картины высадку десанта англичан на Кольском полуострове…
— Ладно, я это знаю, — Виноградов требовательно заглянул в лицо Метелева. — Ты о встрече с Лениным расскажи.
Метелев помолчал, успокаиваясь.
— Ленин принял посланцев Архангельска немедленно, — заговорил он. — Прежде всего предложил очертить военное положение: «Как можно подробнее». По окончании доклада товарищ Ленин при нас написал распоряжение в военное ведомство, требуя принять меры для усиления обороны города и губернии.
— Ты тоже давай подробнее! — сжимал ему локоть Виноградов. — Ленин все же…
— У меня в докладной подробности.
— Ты мне на словах, на словах!
— Особо Владимиром Ильичем, учитывая положение губернии, было подчеркнуто значение транспортных артерий.
Павлин Виноградов пощипал усы.
— Значит, Двина, железная дорога… Принято! А об английских пароходах вы не забыли?
— Имеешь в виду «Экбу» и «Александрию»? — переспросил Метелев. — Конечно, доложили. Ленин советует пароходы занять.
— Прекрасно! — воскликнул Виноградов. — Там одной муки тысяч тридцать пудов. — Он отпустил локоть собеседника и улыбнулся. — Ободрил, спасибо. Извини, спешу. Прощай!
В некогда роскошном кабинете с лепными карнизами — сдвинутые в беспорядке разнокалиберные стулья, слоистый махорочный дым под потолок.
Военный в гимнастерке, перетянутой портунеей, разговаривал с предгубисполкома Поповым, и Павлин Виноградов кивнул ему: «Привет, Зинькович!» — прошел к вешалке, скинул плащ.
— Приступлено к формированию дивизии Потапова. На сегодняшний день укомплектован первый полк в составе тысячи штыков, — вполголоса докладывал военный. — В боевую готовность приведены латышская рота и маймаксанский вооруженный коммунистический отряд, общим числом — шестьсот человек.
— Опасно обольщаться, что отпор врагу организуется, как того требует обстановка, — вмешался Виноградов. — Мобилизация, прямо говоря, если не провалена, то затягивается.
— Павлин Федорович, — обернулся на его возглас военный, — тем более необходимо учитывать наличные силы.
Забрав бумаги со стола, Зинькович вышел.
Остались они втроем: Попов, Линдеман — заместитель председателя Архангельской ЧК — и Виноградов.
Попов вызвал секретаря, распорядился, чтобы к нему никого не допускали.
Линдеман поднялся:
— Разреши, Степан Кузьмич, для надежности своих ребят у дверей поставлю.
Павлин не скрывал удивления: что сие значит?
Они оба питерцы. Попов и Виноградов: первый с Обуховского, второй — с Семянниковского оружейного завода.
— Принято решение, Павлин, о частичной эвакуации Архангельска.
Виноградов возмущенно вскинулся. Попов остановил его жестом.
— Без эмоций! Армия только-только формируется. Опасно обольщаться, как ты сам выразился, что враги дадут нам время для подготовки отражения нашествия. Нужно быть готовым к любым неожиданностям.
Возвратился Линдеман, и Попов, дожидаясь, пока он устроится у стола, заключил подчеркнуто сухо:
— Нас трое, товарищи, кто с настоящей минуты посвящен в сугубую тайну. Речь о валюте, о золоте.
Бился о стекло, нудно зудел комар, залетевший через форточку. Доносились звонки трамвая с проспекта, дребезг ломовых дрог по булыжнику.
Попов круглолиц и чернобров. Отечные мешки под глазами, спекшиеся губы выдают насмерть усталого человека.
— Прошу проникнуться серьезностью момента. Север на пороге войны гражданской. Деньги — вообще мускулы войны. Золото, валюта — в особенности.
— Да сколько же золотишка? — нетерпеливо заерзал Павлин Виноградов, усмехаясь пренебрежительно. По его виду легко читалось — после ответа Попова он сорвется с места: во дел, по горло, некогда на мелочи размениваться!
Степан Попов оторвал клочок газеты, вывел цифру, усердно крутя нули, и протянул Павлину. Тот, по-прежнему усмехаясь, взял бумажку, прочитал. Потом снял очки, даже растерянно откинулся на спинку стула:
— Лишнего не сочиняешь? Что будем делать с этакой прорвой? Вот обуза-то, братушки!