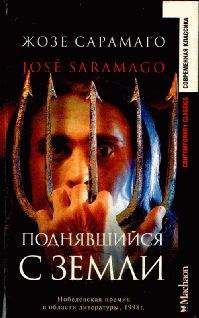После завтрака, в те часы, когда коридорный обычно реже подходил к глазку, Али стоял у моего стола, и я шепотом рассказывал ему то, что знал об этой виньетке.
…Это было ещё в Синджешуве. Перед тем как разослать по лагерям, нас, несколько сот арестованных, заперли в большой амбар при железнодорожной станции, своего рода человеческий пакгауз. Там-то и видел я в руках одного из задержанных, высокого, смуглого человека, чековую книжку какого-то крупного международного банка. Человек этот уверял, что с помощью своей книжки он обязательно вырвется из рук фашистов. Он до такой степени был убежден в чудодейственной силе этой книжки, что всё время держался рукой за карман, в котором она лежала.
Потом пришли эсэсовцы и велели всем раздеться. Наши вещи унесли. Взамен нам бросили какие-то лохмотья. Таким образом, вместе со всеми другими вещами эсэсовцы забрали и чековую книжку.
Кончилось тем, что человек этот лишился рассудка. Он без конца слонялся по амбару, пел или громко читал поминальную молитву.
Теперь я вспомнил его лицо и чековую книжку, которую он нам показывал. На каждом чеке в верхнем левом углу, под названием банка, стояла такая же виньетка, какую сделал Пророк.
Али молча выслушал меня, озабоченно посмотрел на всех нас, на Поророка – и задумался. Потом махнул рукой и тихо вздохнул.
– Так вот оно что! – сказал он.
Низко опустив голову, он сел на своё место и принялся ожесточённо действовать резцом…
Я, кажется, слишком увлёкся рассказом, не считаясь ни с вашим терпением, ни с вашим временем! Если это так – скажите, и я немедленно прекращу! Ну, как хотите! Если вы готовы слушать, то, пожалуйста, прошу пана, сделайте милость! А то, знаете, я сейчас в таком состоянии… Пожалуй, совсем вас замучаю своими разговорами…
Ну, раз вы готовы слушать и слушать, я расскажу вам о самом подземелье. Расскажу, что мне стало известно о нём уже позже, когда я пробыл там много месяцев. Я умышленно забегаю вперед. Может быть, таким путём рассказ мой сам по себе сократится.
Это, если хотите, было что-то вроде самостоятельного государства – безотказно действовавшая машина со всем необходимым штатом обслуживания. Кранц оказался в этой машине еле заметным винтиком. Над Кранцем стояли офицеры, старшие офицеры и генералы. А самым большим начальником, можно сказать, хозяином, там был человек, фамилия которого вам, вероятно, хорошо известна. Гиммлер его фамилия. Я думаю, он ни разу не был в подземелье.
Каково было назначение этого подземного государства? Исчерпывающего ответа я не могу вам дать, но за три года и пять месяцев моего заключения я, пожалуй, узнал немало: в нём находился своеобразный монетный двор, где печатались, однако, не немецкие марки, а денежные знаки других государств. Короче говоря, судьба бросила меня в подземелье, где помещалась самая крупная в мире фабрика фальшивых бумаг. Там не ограничивались изготовлением денежных знаков. Это был комбинат, фабриковавший, помимо ассигнаций и аккредитивов, ещё и всевозможные документы: паспорта, фирменные бланки, свидетельства, векселя, чековые книжки, сертификаты, залоговые квитанции, коносаменты. Кто передавал сюда заказы, куда уходила готовая продукция, было, разумеется, тайной, которую знал в подвале, может быть, только один человек. Что касается нас, исполнителей этих заказов, или, в частности, меня, то я в течение долгого времени не имел никакого представления о назначении этого подземного производства. Только случайно, увидев гравюру, сделанную Пророком, я отчасти догадался о том, что мы делаем.
В то время я работал в камере-мастерской, где нас было всего шесть человек, и, верите ли, меня тогда интересовало не то, что мы делаем, а совсем другое: хотелось понять, почему в мастерской нет и двух человек одной национальности?
Сначала мне казалось, что разноязычие в нашей небольшой мастерской объясняется случайностью. Могу вам сказать, что в мире едва ли найдётся народность, не имевшая своих несчастных представителей в этом подземном государстве. Но впоследствии я понял, что тут не было случайного стечения обстоятельств. Всё было продумано до тонкости.
Хозяева этого огромного производства правильно рассчитали, что людям, не понимающим друг друга, трудно общаться между собой. Они не сумели предвидеть лишь того, что битва за жизнь объединяет и товарищи по борьбе быстро находят общий язык. Впрочем, мы, шестеро узников, ещё долго присматривались друг к другу, пытаясь отгадать, кто же из нас является шпионом Кранца.
Мы понимали, что ни один из узников этой тюрьмы, пробывший в ней хотя бы несколько часов, не мог рассчитывать на возвращение в мир живых людей. Нас держали, пока мы были кому-то нужны, но стоило этому «кому-то» заявить, что фабрика выполнила всё то, что от неё требовалось, и подземелье со всеми его обитателями тут же было бы уничтожено. Возможно даже, что вместе с узниками под землёй «позабыли бы» и многих надсмотрщиков, комендантов, маленьких и средних фюреров, на которых не распространялось доверие хозяев.
У нас в Чермине говорили, что к несчастью нужно ещё иметь и счастье. Не знаю, может быть… Так вот, время шло, а производство под землёй не свёртывалось; наоборот, оно расширялось. По-видимому, круг деятельности наших мучителей там, наверху, увеличивался и продукция, фабрикуемая в подвале, находила всё больший спрос. Однажды коридорный повёл меня не в прежнюю мастерскую, а в цех, о котором я до тех пор не имел понятия. Меня ввели в огромное помещение, где несколько десятков человек выполняли одну и ту же работу. Здесь делались офорты. Что такое офорт? Это тоже углублённое гравирование – рисунок процарапывается резцом в смоляном слое, наведенном на металлическую доску. Затем доску травят азотной кислотой, и рисунок переходит на металл. В цеху стоял едкий запах кислот. По окончании работы меня отвели на ночлег в общежитие с трехъярусными нарами.
Перед тем как войти в цех, конвоир снова предупредил меня о том, что заключённым запрещается общаться между собой – разговаривать и тому подобное. Однако в общежитии эти правила почти не соблюдались, да и тюремщики наши смотрели на такого рода нарушения сквозь пальцы. В конце концов, общежитие было местом отдыха, и даже начальство с этим считалось.
Здесь, в камере-общежитии, я узнал, за что и как был наказан испанец Хуан – номер 333, место которого я занял в мастерской. Рассказал мне это мой сосед по нарам, болгарин Иван.
Хуан, спокойный, почти незаметный, ушедший в себя человек, однажды во время работы вдруг громко запел какую-то песню, из тех, что пели в Интернациональной бригаде. Это случилось так неожиданно, что в мастерской все прекратили работу и повернули головы в сторону Хуана. Стало жутко. Песня вырвалась за дверь и понеслась по гулким коридорам подземелья… Люди слушали затаив дыхание. Я повторяю: это продолжалось, быть может, всего одну минуту, потому что в следующую минуту все проходы были заняты эсэсовцами. А потом воцарилась обычная тишина. Хуана увели наверх, где ему объявили, что за нарушение установленных правил он приговаривается к смертной казни, но, виду того, что проступок совершен им впервые, казнь решено заменить другим, более мягким наказанием.
Номер 333 был доставлен «в больницу, и это показалось, ему странным – ведь он не жаловался на здоровье, через полчаса он спал крепким сном, а когда проснулся, у него не было обеих ног. Начальник больницы объяснил ему:
– Ты ведь работаешь сидя – зачем тебе ноги?
Сейчас номер 333 снова работал на прежнем месте, а меня перевели в общую мастерскую.
Я думал, что после Освенцима удивляться жестокости нацистов по меньшей мере наивно. Люди, работавшие в цеху, видели и испытали не меньше моего. И всё же, когда стало известно, что сделали нацисты с нашим товарищем, по всему общежитию пронесся стон. Так, верно, стонет земля, когда из её недр вырывается огонь, испепеляющий всё на своём пути. Но огня не было, да и откуда ему было взяться, прошу пана? На нарах лежали измученные, изголодавшиеся, обездоленные люди, уже много месяцев не видавшие солнечного света, оторванные от всего живого, брошенные в яму, из которой невозможно вырваться…
И снова потекли дни. Нас водили в цех на работу, а оттуда – в камеру-общежитие, где мы, смертельно усталые, валились на нары. Никаких перемен, никакой весточки сверху, ничего! В этом скорбном, мертвенно неизменном течении жизни мы потеряли счёт времени. По-видимому, только какое-нибудь важное, исключительное по своей силе событие могло вывести нас из этого отупения.
В самом деле, что изменилось в моей жизни после того, как меня перевели в большое общежитие, в котором обитали несколько десятков человек? Ночами, лёжа на своих нарах, я немало об этом думал. Было горько вспоминать, как мучительно рвался я к людям, как томился в своей одиночке. «Люди! Хочу к людям! Только бы умереть среди людей!» Таково было тогда единственное моё желание. Ну вот, теперь это желание исполнилось: вокруг меня были люди. И что же? Изменилось ли что-нибудь в моей жизни?