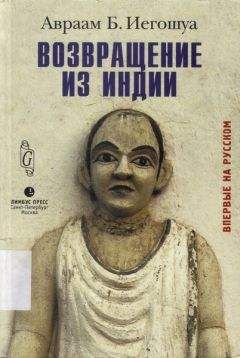В этой сладкой печали воспоминаний проводят они свой последний дивный летний вечер на границе Испанской марки, в том самом месте, где сходятся земли двух великих всемирных религий. И хотя сердца их порой вздрагивают от легкой тревоги за судьбу третьего компаньона, который мчится сейчас в самом сердце ночи с болтающимся возле мошонки увесистым мешочком, они тем не менее довольны, что мусульманина уже нет с ними рядом — ведь только в его отсутствие они могут приправлять свою беседу звуками святого иврита и украшать ее мудрыми изречениями древних еврейских мудрецов. А назавтра, в канун девятого ава, сюда поднимется сам Бенвенисти в сопровождении группы евреев, которых он всегда нанимает специально для миньяна, чтобы вместе с ними помолиться здесь и оплакать разрушение Храма, и тогда дядя с племянником смогут на время вообще позабыть о леопардовых мешочках и торговых интригах и, взяв горсть пепла из угасшего костра, посыплют им головы и присоединятся в этом скорбном жесте к вечному трауру и Божьему страху всего своего народа.
Но вот в чутких, всегда настороженных ушах капитана Абд эль-Шафи рождается тонкая звенящая нота, возвещая ему, что третья ночная стража уже заступила на смену второй, только что бесследно растаявшей в просторе Руанского залива. И впрямь — на востоке округлый небесный свод чуть сплющился и словно бы приблизился к земле, да и луна, если поглядеть, опустилась до уровня человеческого роста. И вроде бы капитану всего-то и забот, что пролагать нужный курс да правильно вести корабль, однако же, вот и к Абд эль-Шафи тоже привязалась какая-то неясная, но неотступная тревога за исход тайной, некоммерческой стороны всей их затеи, и вот теперь тревога эта заставляет его через силу подняться на ноги, чтобы попытаться растолкать компаньона Абу-Лутфи, рухнувшего вповалку от одного лишь запаха бордосского вина, и напомнить ему, что пора, пожалуй, разбудить захмелевшего, тяжело распластавшегося на палубе Бен-Атара, не то еврей так и не успеет посетить свою вторую жену, что ждет его в каюте на корме. Ведь еще немного, и займется рассвет, а с ним кончится их последняя ночь в открытом море, и с этой минуты они утратят всю свою прежнюю неприметность. И отныне им суждено будет плыть под мнительными взглядами местного народа с обоих берегов петлистой реки — ведь в эти дни, в самый канун тысячелетия, души всех христиан так возбуждены суеверными страхами, что они, чего доброго, готовы будут и на палубу забраться тайком, лишь бы выведать, что это за странный незнакомый корабль поднимается мимо их жилищ вверх по течению и с какими такими целями он плывет. Да и та скрытая, невысказанная тревога, которую Бен-Атар, с трудом выбираясь из вязкой бездны хмельного сна и подставляя лицо бодрящей прохладе предрассветного бриза, сразу же замечает в глазах своего арабского компаньона, который энергично и даже несколько раздраженно будит его, — не теми же ли опасениями порождена и она? Какие, однако, глубокие морщины избороздили за последние годы лицо этого исмаилита, с глубокой жалостью думает еврейский купец. Уж не шрамы ли это и рубцы того предательства, каким обернулась для честного Абу-Лутфи нежданная решил их молодого северного компаньона?
Меж тем Бен-Атар и сам далеко не уверен пока, что ему удастся второй раз за ночь расправить крылья своего желания. Тем не менее он тотчас спешит распрямиться, и хоть его еще качает со сна и он судорожно хватается за дощатый борт, за которым хлюпает темная речная вода, покачивая стоящий на якоре старый корабль, но, даже держась неприметно за край дряхлого железного щита — одного из тех, что они оставили на бортах этого былого сторожевого судна, — он изо всех сил старается очнуться и поскорей стряхнуть с себя тяжелый, одуряющий хмель, принудив этот хмель вернуться назад, откуда он пришел, — в те спелые, свежие виноградины, из которых гладкие ноги франкских женщин когда-то выдавили их красную винную бордосскую кровь. И, стоя вот так у борта, он видит, что в устье невидимой реки все еще горит костер и на освещенном участке воды распластан зачарованный силуэт какой-то огромной птицы, и внезапно все его чувства так широко раскрываются навстречу наполненной новыми предзнаменованиями ночи, что он чуть не падает на колени, словно тоже уже заразился языческим ликованием своего молодого раба. А тот меж тем легок на помине — тут же возникает из темноты, как всегда неутомимо бессонный, как всегда в неумолчном, еле слышном медном перезвоне переговаривающихся на предрассветном ветру колокольчиков, в любое мгновенье готовый поднять масляную лампу и осветить путь усталому хозяину, которому супружеский долг велит изо всех сил торопиться, дабы успеть возлечь со своей второй женой еще до восхода солнца.
А здесь, на задах судна, свет масляной лампы и в самом деле куда как кстати, потому что кормовой трюм так раздался вширь и так плотно забит товарами, что неоглядная ширь эта и заставленность лишь многократно усиливают общую путаницу и еще более углубляют ночную тьму. И вот Бен-Атару приходится лавировать меж всех этих раздувшихся мешков с пряностями, да огромных тюков тканей, да пузатых кувшинов с оливковым маслом, связанных друг с другом льняными веревками, точно пленники у пиратов, а тут еще ему навстречу поднимаются с подстилок оба верблюжонка, мерцая в темноте своими полными печали глазами. Еще в Танжере пустая гулкая ширь, открывшаяся в трюме старого сторожевого судна, когда оттуда убрали солдатские нары, вдохновила компаньона Абу-Лутфи на мысль добавить к баранам и курам, предназначенным для корабельного котла, еще и двух молоденьких верблюжат, самца и самочку, и вот теперь они стоят перед Бен-Атаром, тоже связанные друг с другом мягкой веревкой. Верблюжат этих Абу-Лутфи надумал преподнести в подарок новой жене компаньона Абулафии, в расчете смягчить непреклонный дух этой женщины, дав ей возможность ощутить взаправдашний вкус и запах той загадочной далекой Африки, из которой горестная судьба путаными своими путями привела к ней ее молодого мужа. Поначалу Бен-Атар решительно отверг нелепую идею арабского компаньона, но в конце концов свыкся с ней и даже согласился — не потому, конечно, будто и сам вдруг вознадеялся, что незнакомая ему голубоглазая женщина вдруг ни с того ни с сего воспылает любовью к двум этим маленьким горбатым тварям, но из совершенно иного расчета: а может, эти необычные и редкие животные приглянутся каким-нибудь знатным франкским вельможам? Ведь знать — она везде знать, везде и всюду так и тщится подчеркнуть свое превосходство над обычным людом какими-нибудь вычурными манерами да заумными причудами. Да вот только дотянут ли они до конца пути, эти юные, слабые животные, к тому же родившиеся в пустыне? — с тревогой думает Бен-Атар, искоса поглядывая на черного раба, что так и застыл перед верблюжатами, — то ли намереваясь встать перед ними на колени, то ли любовно обнять и погладить их маленькие изящные головки. Правда, компаньон Абу-Лутфи каждую неделю исправно скармливает этим тварям небольшую соломенную циновку, иногда добавляя к ней кусочки зеленоватого, сбитого еще до отплытия и уже пованивающего масла, но Бен-Атар никак не может отделаться от мысли, что тоненькая сетка налитых кровью сосудиков, всё больше затягивающая глаза верблюжат, и та дрожь, которая непрестанно сотрясает их маленькие горбики, — всё это ничего хорошего не сулит. Когда ж оно уже кончится, это клятое путешествие?! — со вздохом вырывается у него, пока он пробирается всё глубже и глубже по трюму, из отсека в отсек. И суждено ли ему самому благополучно вернуться в родной Танжер, суждено ли снова обнять и расцеловать своих детей? Мрачные, тяжелые мысли всё еще ворочаются в его голове, когда он приближается к входу в каюту второй жены и тут замедляет шаги, заметив, что перед самым входом расположился на ночь маленький сын рава Эльбаза. Остановившись над спящим, Бен-Атар раздумывает, не разбудить ли ему непрошеного гостя да прогнать с облюбованного места. В последнее время мальчишка ни за что не соглашается спать вместе с отцом на носу корабля и все норовит улечься именно здесь, на корме, перед занавеской из темной ткани, возле которой, слегка робея, застыл сейчас и сам Бен-Атар. Увы — маленький Эльбаз, который большую часть дня так и рвется помочь матросам, то взбираясь на верхушку мачты, чтобы следить оттуда за морским простором, то вычерпывая с ними просачивающуюся в трюм воду, спит сейчас таким глубоким и покойным сном, что у Бен-Атара вдруг пропадает всякое желание его будить. И вот, взяв масляную лампу у черного раба, он велит ему отправляться обратно на палубу, а сам, дождавшись, пока шаги молодого язычника окончательно погаснут в гулкой пустоте над головой, слегка отодвигает занавеску, за которой немедленно обнаруживается вторая, низко сгибается под нею и чуть не ползком пробирается к ложу свой второй, молодой жены.